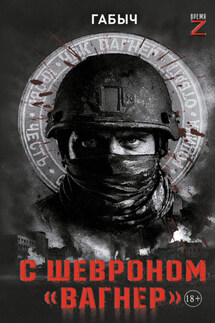Теория войны и успешного мира - страница 3
Кроме этого «одомашненного» мышления, недостаток правления монархических династий был основан на их завышенных самооценках и чувстве беспредельной власти, что для населения было однозначно плачевно: к нему относились как к оккупированному, то есть жестко. Получалось так, что государство, вернее псевдогосударственное образование, находилось на грани холодной войны между постоянной элитой и ненужным, как бы наплывающим, населением. Оно «прижималось» к более-менее организованной общественной системной структуре, в которой эти люди видели более легкий способ получения средств к выживанию, еде и какой-то защите. Также нельзя забывать, что человек – социально-территориальное существо и без себе подобных жить не желает, так как это в разы сложнее. Но это вынужденное «содружество» перерастало в бунты и вооруженное сопротивление владельцам этой системы, так как через какое-то время даже вновь прибывшие считают себя уже принадлежащими этой территориальной системе. Они надеются на минимальную помощь, но, не видя ее, начинают возмущаться своим положением.
Б. Традиции, тянущиеся веками, которые издревле предполагали, что можно обогатиться за счет захвата и присоединений других территорий, не давали возможности осмысливать ничего иного, как поиск того, кто не может долго сопротивляться. Причем этот очень якобы плохой объект нападения совершает провокационные действия, давая повод для нападения. Иными словами, объект агрессии всегда в чем-нибудь виновен! Желание повоевать также подогревалось тем, что во времена отсутствия рабочих мест и массовой занятости не было иного, лучшего дохода для населения, кроме как наемная работа в начинающейся войне, что и представляло особый интерес. Но победа в войне приносила выгоду только руководителю государства, что делало его единственным выгодополучателем. Солдаты же получали жалование и немного трофейной мелочи от узаконенного мародерства. Но это было хоть какой-то работой за деньги для большинства населения. И это было интересно, несмотря на возможные риски потери жизни даже от легкого ранения или некачественной воды и еды. При ситуации же проигрыша население несло невосполнимые убытки в виде потери свободы и жизни. Тяжелую, каторжную работу в оккупации или плену за кусок плохого хлеба и простое рабство никто не отменял. Об имуществе и говорить не стоит – его отбирали или уничтожали. Затейник войны при проигрыше также терял все – просчеты в планировании военных кампаний были фатальны. Это примерная характеристика экономического обоснования в принятии решения – начать войну или нет – и понимание итогов от результатов доиндустриальных периодов истории.
В процессе развития индустриализации стали требоваться более образованные специалисты в производственных предприятиях, и интерес к военным походам начал падать. При этом происходил процесс роста недовольных своим положением и зарплатой. Первоначальный этап индустриализации по требуемой интенсивности труда был крайне похожим на применение труда иноземных рабов. Нежелание попадать в такую трудовую среду заставляло многих менять обжитые места. И тут дело не в уме, а в самом характере человека – искать лучшее, где можно реализовать свой потенциал. Для многих быть наемным работником было невыносимо тяжело и скучно. Эти люди стали более тщательно искать себе применение и поднимать свой интеллектуальный уровень. Искатели новых возможностей были заинтересованы интенсивно осваивать другие территории, что во многом являлось началом новых конфликтов. Иными словами,
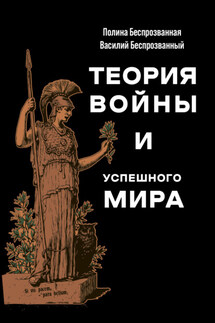

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)