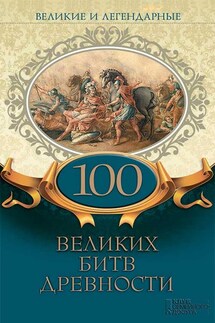Тихая работа вежливых людей - страница 7
– Диффузия душ на молекулярном уровне, – заключил я, насмотревшись на них за двое суток.
Я представил Ару в «аэродроме»[17] на голове, с недельной щетиной на круглых щеках, обильной порослью, курчавившейся из распахнутого ворота тенниски, азартно размахивающего руками за базарным прилавком с персиками горкой, и улыбнулся нелепости сказанного Пухом: ну какой из Ары торгаш? Вот пулемётчик – это да, это от Бога, виртуозно работает хоть с ПКМ, хоть с РПК[18]. Вот звездануть, что плохо лежит – это, пожалуй, да, сможет, а торговать – нет, не его. Башибузук какой-то, хоть и армянских кровей.
В общем-то, Ара имел право напомнить о себе: пока был в донецком аэропорту, кто-то успел распотрошить его эрдэ[19], остававшийся в казарме, да и не только его. Теперь на нём лишь наспех зашитая на плече камуфляжная куртка, футболка да потрёпанные джинсы. Пух извиняюще и миролюбиво утешил, что либо военторг поможет, либо укры поделятся, но зипуном он себе непременно на зиму разживётся.
Пух с моей молчаливой подачи слегка натягивал вожжи: не детский сад, сопли вытирать некому, раз впряглись, то тянуть придётся воз молча.
Я заприметил его ещё у казаков за двое суток до отъезда. Несуетливый, но ловкий в движениях качок с короткой, почти под ноль, стрижкой быстро отсёк любопытные расспросы и вообще выделялся какой-то внутренней надёжностью. Он тогда представился коротко: «Пух», крепко тиская руку и улыбаясь по-детски доброй и стеснительной улыбкой, и пояснил, что отца по подворью Пушком звали, вот он и решил, что раз батя Пушок, то тогда он непременно Пух. На его физиономии расплывалась широченная улыбка от уха до уха, и в порыве чувств он так крепко зажал в своей клешне мою руку, что ещё мгновение, и пальцы ни в коем случае никогда не разжать, и превратятся они в безжизненную ласту.
Отправляясь на войну, всегда служили молебен о даровании победы в сражении, о сохранении жизни на поле брани, об избавлении от плена. Так уж заведено было предками нашими, да только в советские годы тайком всё было: зашивала мать в нагрудный потайной карманчик «Живый в помощи», прятали нательный крестик от глаз сторонних, а в особенности от замполитовских. Но у того тоже была мама, и он тоже тайком носил чёрную ленту с золотой вязью – девяностый псалом, оберегавший его пуще партбилета от смерти лютой.
С Чечни, пожалуй, повелось преклонить колени пред образами в канун отъезда. И потянулись в храм уезжавшие на Кавказ, и замелькали кропила батюшек на перронах вокзалов да на воинских плацах, и отпевали тоже по православному обряду прежде прощального залпа.
Хотя нет, для кого-то уже с Карабаха начиналось: робко вспомнили о корнях своих, о вере вытравляемой, да так и не вытравленной. Потом всё чаще и чаще к Богу обращались: и в Приднестровье отправляясь, и в Абхазию, и в октябре девяносто третьего, когда алчность и предательство распинали совесть России, и когда корчилась, раздираемая, Югославия, а когда опалил Кавказ, то мощно пошли в храмы не по велению сверху, а по потребности духовной.