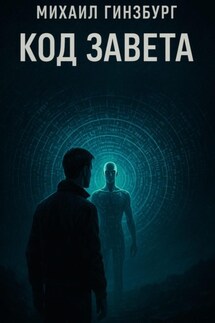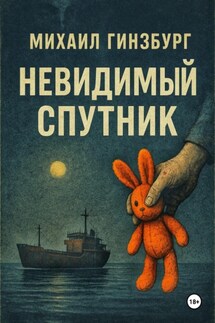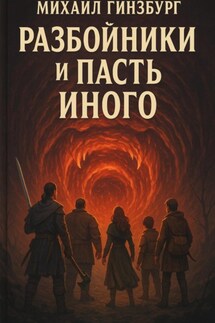Тихий переход - страница 2
"Доктор Рид," – начал он тем же ровным тоном. "Термин 'поздний дебют', как вы понимаете, является скорее медийным упрощением. Мы предпочитаем говорить об 'актуализации ранее латентных нейротипов' под влиянием изменившейся среды или внутренних биохимических процессов. Это ожидаемый этап адаптации для значительной части популяции."
"Ожидаемый?" – переспросила Эвелин, стараясь скрыть удивление. "Но резкий рост статистики…"
"Статистика отражает не столько рост самого феномена, сколько усовершенствование диагностических инструментов и изменение социальных парадигм," – мягко поправил Финч. "То, что раньше считалось эксцентричностью или социальной дезадаптацией, теперь корректно классифицируется как вариант нормы – или, скажем так, новой нормы." Он сделал паузу. "Что касается корреляции с моделями идентичности… Да, связь прослеживается. Определенные нейротипы демонстрируют большую вариативность в этих аспектах. Это тоже можно рассматривать как часть адаптивного процесса. Уход от ригидных бинарных систем – как в мышлении, так и в самоопределении – повышает общую эффективность и снижает уровень социального стресса."
Эвелин слушала, и внутри нарастал холод. Он говорил об этом так… просто. Будто речь шла об обновлении программного обеспечения. Адаптация. Эффективность. Снижение стресса. А как же личность? Память? Чувства? Марк?
"Но как же субъективный опыт? – спросила она, возможно, чуть резче, чем следовало. – Люди, переживающие эту… 'актуализацию'. Они описывают чувство потери, дезориентацию."
Финч едва заметно наклонил голову. "Субъективный опыт – важный фактор для психотерапевтической поддержки на этапе перехода. Институт разрабатывает эффективные протоколы 'гармонизации'. Но с точки зрения нейробиологии, это временные флуктуации, шум в системе на этапе калибровки. Конечная цель – стабильное, логически оптимизированное состояние."
"Оптимизированное," – повторила Эвелин эхом. Слово показалось ей уродливым.
"Именно," – подтвердил Финч. Он коснулся своего планшета. "Мы можем предоставить вам доступ к некоторым деперсонализированным базам данных по динамике нейропластичности у взрослых. Возможно, это будет полезно для ваших исследований." Он посмотрел на нее – все тот же прямой, холодный взгляд. "Но я бы рекомендовал сосредоточиться на конструктивных аспектах адаптации, а не на рудиментарных эмоциональных реакциях, которые лишь затрудняют процесс."
Это было сказано мягко, но прозвучало почти как предупреждение.
Встреча подходила к концу. Эвелин поблагодарила его, встала. Рукопожатие было таким же сухим и коротким.
Выйдя из башни Института обратно под мелкий дождь, она остановилась на тротуаре. Город жил своей новой, упорядоченной жизнью. Автомобили бесшумно скользили по выделенным линиям. Пешеходы двигались размеренно. Слова Финча – "ожидаемый этап адаптации", "оптимизированное состояние", "рудиментарные эмоциональные реакции" – эхом отдавались в голове.
Официальная наука дала свой ответ. Холодный, логичный, бесчеловечный. И этот ответ пугал ее гораздо больше, чем сама загадка "Сдвига". Потому что он означал, что мир не просто меняется. Он меняется по плану, который не оставлял места для таких, как ее отец. И для таких, каким был Марк.
Глава 4
Слова доктора Финча – "ожидаемый этап адаптации", "оптимизированное состояние" – осели в сознании Эвелин холодным, тяжелым пеплом. Она вернулась в свой кабинет в Институте, но знакомые белые стены, тихий гул оборудования, панорамный вид на город сквозь моросящий дождь – все это теперь казалось декорацией. Фасадом, за которым скрывалась тревожная пустота или, что хуже, тщательно управляемая ложь. Марк – не "оптимизация". То, что происходило с ним, с миллионами других – не просто "калибровка системы". Она чувствовала это почти физически, как чувствуют приближение грозы по изменению давления.