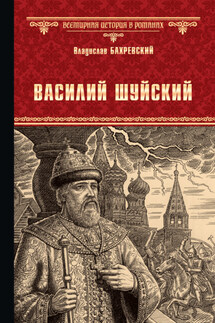Тишайший (сборник) - страница 46
– А без меня не обойтись?
– Не обойтись, государь!
– Ну ладно. Я завтра приду в Думу, посижу. А уж сегодня, будь милостив, отпусти. Люди меня ждут.
– Смею ли задерживать твое царское величество? – поклонился боярин. – Одно скажи, лепо ли воеводой Большого полка поставить князя Никиту Ивановича?
– Очень хорошо! – согласился Алексей Михайлович, ныряя в шубу, которую принес и держал Федя Ртищев.
Одевшись, государь стал вдруг медлить, перчатки попросил на рукавицы заменить. Рукавицы принесли красные – попросил зеленые. Вспомнил, что надо бы на дорожку облегчиться, скинул шубу, наскоро простился с Борисом Ивановичем, а стоило тому за порог – шубу на плечи, рукавицы взял красные, Федю обнял:
– Прости, брат!.. При Борисе Ивановиче уходить из дворца не хотел. Пришлось бы по-царски, а мы – тишком!
Никон слушал радостный шепот царя и глядел в сторону. Тишком, тайком… Он мечтал быть с царем на людях, чтоб все видели, чтоб во всем великолепии.
– Святой отец! – услышал Никон царя. – Идем-ка в малую какую церквушку.
И опять у Никона сердце печально екнуло: мечтал явиться с царем в Успенский, чтоб митрополитам, самому патриарху кинуться в глаза, а у царя на уме одно мальчишество.
– Великий государь, это изумления достойно, что ты не забываешь самых сирых во владениях своих… – Голос у Никона дрожал от обиды, но все приняли скоки в голосе за умиление.
В церквушке было тесно. Алексей Михайлович весьма удивился: церковь убранством бедна, свету в ней мало, иконами не знаменита.
Служили три попа. Скоро стала государю понятна завлекательность этой церквушки. Здесь пели священные тексты в шесть голосов сразу. Шесть человек читали разное. Понять ничего было нельзя, но служба зато кончилась так скоро, что государь и его спутники в себя еще не успели прийти от изумления.
Народ, весьма довольный, тотчас покинул церковь, а государь все стоял на месте – губы сжаты, глаза узкие.
– Никон!
– Слушаю тебя, великий государь.
– Вертеп!
– Вертеп и есть.
Царь сорвался с места, вбежал в алтарь, схватил изумленного попа за грудки. Поп был огромный, краснощекий.
– На Соловки! – крикнул государь в лицо молодцу в ризах. – Всех на Соловки!
И пошел из церкви вон.
– Чего это он? – улыбаясь, оглянулся на своих товарищей поп-молодец. – Да кто это? Да как он смел за грудки-то меня? Догнать бы…
Старый поп одной рукой схватился за сердце, другой замахал:
– Это – царь! Это – сам царь! Погибли!
Поп-детинушка почесал в затылке, но тотчас скинул с себя облачение, взял у послушника кружку с деньгами, высыпал в полу рубахи, зажал полу в кулак, шубу да шапку подхватил и двинул в ночь не оглядываясь.
Государь в сердцах тоже расшагался, Никон не отставал, а Ртищеву приходилось петушком семенить.
– Великий государь, – говорил Никон с напором, – весь этот срам и блуд искоренять надобно рукой железной. В Москву надобно собрать таких попов, которые Москвы достойны. Вот в Нижнем, знаю, поп Неронов служит. Брошенную церковь к жизни вернул. К тому тоже народ валит, но не затем, что служба скорая, – слово хотят слышать. Неронов-то Иван словом Божьим как пламенем прожигает.
Алексей Михайлович снял рукавицу, пожал холодную большую руку Никона:
– Спасибо! – И позвал: – Федя, где ты?
– Я здесь, великий государь.
– Запомни: Неронова из Нижнего в Москву надобно позвать. В Успенский собор!
Они стояли на засыпанной снегом улочке.
– Великий государь, во дворец пора, спохватятся! – сказал Ртищев.