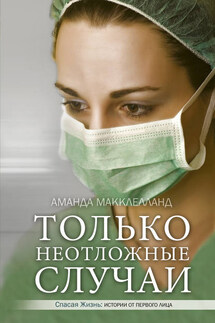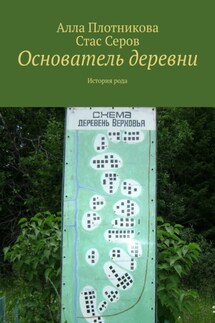Только неотложные случаи - страница 26
Не думаю, что такой подход сработал бы в любой другой стране мира. Это было логичное решение, но не то, с которым людям легко смириться. Собак в Йироле не баловали, как у нас в Австралии, но они жили вместе с людьми и у каждой имелись хозяева. Однако те не жаловались, когда их питомцев стреляли – наоборот, одобряли действия военных. Этим людям столько всего грозило – война, малярия, тяжелые роды и прочие факторы, не поддающиеся контролю – что они соглашались на любые меры, которые могли помочь, если выпадал такой шанс.
Зато посягни мы на скот, история была бы совсем другой. Коровы в Южном Судане представляли собой эквивалент валюты, поскольку местные деньги ничего не стоили. Южносуданские фунты, введенные британцами, не печатались с начала гражданской войны. Банкноты, оставшиеся в хождении, настолько затерлись, что стали почти черными и рассыпались в руках; определить их достоинство не представлялось возможным. Благосостояние измерялось количеством голов скота, и местные жители держали свои стада под неотрывным надзором – порой даже слишком.
В окрестностях Йироля кочевали семьи скотоводов, живших вместе со своими коровами, что, с точки зрения гигиены и профилактики, выглядело сущим кошмаром. Смертность среди детей младше пяти лет у кочевников была гораздо выше, чем у оседлого населения. В основном их убивали малярия, пневмония и диарея, но в этих семьях бытовали также практики, сильно увеличивавшие риск заражения и другими заболеваниями. Одним из них являлся бруцеллез, или стойкая лихорадка, бактериальное заболевание, вызывающее резкие подъемы температуры, потливость и боли в суставах, которое может приводить к артриту, упадку сил и даже смерти. Передается бруцеллез при контакте с телесными жидкостями от зараженных животных.
Меня послали изучить условия жизни кочевников, чтобы разобраться, почему у них такая высокая смертность, и список факторов риска оказался очень, очень длинным. Семьи жили вместе со скотом – не рядом с ним, а именно вместе, то есть в буквальном смысле в коровьем дерьме. Они жгли навоз и обмазывались золой, говоря, что она помогает отгонять москитов (уж не знаю, так или нет, но кочевники были в этом уверены). Коровьей мочой они осветляли волосы, подставляя головы прямо под горячую струю, исторгаемую животным. Они пили сырое молоко, не проходили вакцинаций, не использовали накомарников. И, конечно, в их стойбищах не было источника чистой воды, а о том, чтобы мыть руки, они и слыхом не слыхивали.
Что касалось ухода за скотом, разным возрастным группам отводились разные задачи – каждая со своим спектром рисков. Юноши отвечали за перегон стад на дальние расстояния и поэтому чаще заражались дракункулезом, но больше всего меня шокировала работа, которую выполняли молодые девушки. С виду это могло показаться извращенной разновидностью сексуального контакта, но на самом деле к сексу отношения не имело – просто одна из фермерских практик. Тем не менее, выглядела она отвратительно. Если корова переставала доиться, девушки-кочевницы засовывали лицо ей в вагину и выдували воздух через сжатые губы, чтобы вибрацией стимулировать выработку молока. Именно так они заражались бруцеллезом.
Чтобы избавиться от многовековых культурных практик наподобие этой, требуется немало времени, так что нам пришлось поднапрячься в поиске практических решений. Может, выдавать им стоматологическую резиновую пленку? Или запустить пропагандистскую кампанию: «Любите коров – не “любите” коров!»? В конце концов единственное, что мы смогли сделать – это настойчиво напомнить всем этим девочкам сразу после возникновения симптомов обращаться к нам за антибиотиками.