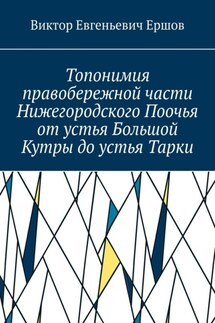Топонимия правобережной части Нижегородского Поочья от устья Большой Кутры до устья Тарки - страница 8
К третьему типу топонимов относятся производные сложные (сложенные). Они могут состоять из двух-трех морфем (наименьших единиц языка, имеющих некоторый смысл), выступающих в качестве основы топонима. Двух формантные топонимы могут образовываться:
а) существительное + существительное
(д. Верхополье);
б) глагол + существительное (д. Терпигорево);
в) прилагательное + существительное,
г) числительное + существительное [89, с.19].
Производный составные топонимы представляют собой словосочетание, состоящее из двух и более частей речи. Например, горы Перемиловские, с. Большое Загарино, д. Третье поле. При этом числительное, использованное при именовании местности, снижает маркированность повторов. Наличие порядкового номера при топонимических дублетах указывает на последовательность появления населенных пунктов в местности, где есть Третье поле, следовательно, были Второе и Первое поле [90, с 24].
Топонимика представляет глубочайший интерес не только для языкознания, истории, географии, но и этнографии как науки, изучающей народы-этносы и другие этнические образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые особенности. Анализ топонимов позволяет установить особенности этногенетических процессов на территории края, в основе которых с глубокой древности лежали процессы миграции и интеграции этнических групп. Топонимы раскрывают сущность мировосприятия и жизнедеятельности народов, проживающих в низовьях реки Оки на ее правом берегу.
По мнению Н. В. Подольской «топонимист, в отличие от классического филолога, имеет дело не с подлинниками, а с суррогатами лексики, производной от неких „исходных“ основ. Он не может знать, как в реальной жизни произносились гласные (а/ъ/о/), согласные, где стояло ударение и т. д. К суррогату нельзя предъявлять тех же требований, что и к устоявшимся терминам, зафиксированным в переводных словарях» [105, с. 100]. С таким ее мнением не согласны некоторые исследователи, считающие что предметом их изучения являются как раз полинники.
Тем не менее Н. В. Подольская сделала следующие выводы:
– использование заведомо ложных предпосылок для получения истинного знания запрещено методологией научного познания и за конами формальной логики;
– топонимист обречен действовать в рамках вероятностной логики, между истиной и ложью. Его этимологии имеют лишь гипотетический характер; в максимальной степени они могут соотноситься с действительностью лишь благодаря использованию данных смежных научных дисциплин;
– необходимо следовать принципам историзма. «Этимология – ничто, если она игнорирует причины, породившие названия. А эти причины – всегда и только исторические»; географические и языковые факторы вторичны по отношению к историческим;
– анализируя топонимы, филолог пользуется языками народов, проживавших на данной территории. Каких именно – на это ему указывает историк. Таким образом, филолог зависим от историка;
– приоритет историзма оправдан еще потому, что исторические дисциплины имеют дело с конкретным материалом: документами, вещным инвентарем, объектами археологии и т. д. Все это осязаемо, измеряемо, а потому познаваемо. То же можно сказать о географической среде. Мы не умаляем плодотворности методов лингвистики – она научила «говорить» машины, она сделала огромный шаг вперед! Тем не менее вынуждены констатировать причинно-следственную связь, присущую топонимике: именно историческая и географическая конкретика вызывает к жизни конкретику филологическую, а не наоборот [19, с.101].