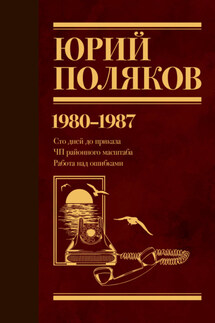Трава-мурава - страница 39
– Мама, – опять спросил немного погодя Панька, – а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?
– Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором знаешь? Ну дак от того гумна три версты считается. Дорога все лесом-лесом, по холмикам да по веретейкам. Грибные, ягодные места. Вот уже лета дождемся – пойдем. И Надьку, и тебя возьму.
Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове – худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке.
– Спишь, Панька?.. Ну и ладно, спи, – сказала она, не дождавшись ответа.
Затем осторожно, чтобы не потревожить сына, расправила ноющие в коленях ноги – на погоду, видно, разболелись.
Ну, слава богу, утихомирился.
И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер.
Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой.
Они звали Паньку в два голоса.
– Паня, Паня, иди домой, – голосила со своего крыльца Надька.
А в это время с тем же истошным криком металась по лесным дорогам Авдотья.
За ночь резко похолодало, задул сиверко, ельник расшумелся-разохался. Она кричит: «Паня, Па-а-аню-ушка». А ей в ответ: «У-y… у-у-у…»
И не единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень.
Авдотья сбегала до Лебяжьих озер – нету, проколесила наполовину Болотницу (не одна дорога зачинается за старым гумном) – тоже не видать. И снова, в который раз, вышла к старому гумну.
«Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти», – подумала она и вдруг увидела пастуха Паисия.
Паисий, громыхая топором, разбирал на дрова развалины старого гумна.
Авдотья горько расплакалась. Этот немтун-горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малое, обрадовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит… Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с поскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шаркунок или коробочку.
– Что же ты, Паисьюшко, топором-то машешь? – заговорила, захлебываясь слезами, Авдотья. – Где у тебя тезка-то?
Паисий выкатил свои светлые кругляши, заулыбался, дурак.
– Пень бестолковый! – рассердилась Авдотья. – Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? Пропал Панька-то, ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь.
И спасибо Паисию. Нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между Болотницей и Озерной, и не догадалась туда свернуть, а ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна.
Парень был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме. И он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный.
– Паня, Паня, не умирай, – охрипшим голосом умоляла его Надька.
И один раз, казалось, Панька приходит в себя.
– Надя, Надя, я их видел…
А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб.
Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лику Богородицы, тускло мерцающему в переднем углу.
– Царица Небесная, яви чудо. Это я, я завела ребенка в лес. Сама ему дорогу указала.
Но чуда не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер.
Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится в памяти? И Паньку забыли, забыли чуть ли не на другой же день после похорон.