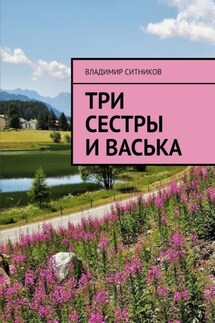Три сестры и Васька - страница 5
Мамка думала овёс.
Расхрабрившись, добавлял такую частушку, за которую откололось бы ему в сталинское время:
К коммунизму мы идём,
Птицефермы строятся.
Ну а яица мы видим,
Когда в бане моемся.
А ещё хотелось Серёге объяснить, почему он никуда не уехал, а остался в своей Зачернушке, хотя звали его и в Сибирь, и на целину:
Мой товарищ дорогой,
Давай поделимся судьбой:
Мне соха и борона,
Тебе чужая сторона.
Подавала голос самая пожилая зачернушкинская старуха – Акулина Арефьевна. А частушка у неё оказалась свежая, современная.
Как на пензию живу я,
Непонятно до сих пор.
Хорошо, что есть картошка,
Свёкла, лук и хренодёр, – а потом и она вспоминала притужное прошлое:
Мы в колхозе работали
С солнышка до солнышка.
На горбу зерно таскали,
А теперь – ни зёрнышка.
Озорной задиристой Дарье не терпелось высыпать свои разухабистые коротышки-песенки, от которых брал смех даже самых степенных и смиренных бабок:
Говорят, что я старуха,
Только мне не верится.
Да какая я старуха —
Всё во мне шевелится, – басила Дарья и добавляла:
Ух, ух, люблю двух,
А гляжу – одна лежу.
Пошла плясать, юбка съехала на задь,
Дайте гасник подвязать,
Дак я опять пойду плясать.
Усердно топая, объёмистая, круглобокая расталкивала Дарья товарок:
– Шевелитесь, девки. Не спать пришли. Там успеем выспаться-то.
– Давайте долгую, волокнистую споём, – предлагала помолодевшая от пляски, раскрасневшаяся бабушка Луша и высоким голосом заводила:
Тихо в поле, в поле под ракитой,
Где клубится по ночам туман.
Там лежит, лежит в земле зарытый,
Там схоронен красный партизан.
Волокнистыми называли такие песни оттого, что как льняное волокно, тянулись они долго.
– Ой, Василисушка, спасибо. От души напелися, – благодарила её высокая костистая тётка Дуня Косая, – играй нам почаще.
Остальные тоже наперебой хвалили гармонистку за то, что скрасила день.
Нравилось Ваське в Зачернушке. Здесь всё было какое-то ласковое, понятное, доброе. Когда умывалась из рукомойника, баба Луша подавала ей полотенце. А на нём вышито: «Умывайся белей, ходи веселей, лице утирай, меня вспоминай». Глаза у бабушки приветливо голубели.
Чуть свет затваривала бабушка квашню. Кисловато пахло тестом, а уж потом, когда печь протопится, донесётся до Васьки хлебный дух, приятный, вкусный.
– Садись, жданная, за стол. Молочко парное от Вешки ждёт тебя.
Вешка большая, добрая корова, как говорила бабушка, в «красной рубашке». Ваську любила и даже давалась доить. Бабушка позволила подёргать её за соски.
Любила Васька бабушкины постряпушки на скорую руку из толокна.
– Когда я маленька была, – завлекательно вспоминала баба Луша, – дак меня от чаруши с тяпнёй оттащить не можно было. Вот и ты… Ешь толоконце, дак будет попка, как оконце.
У Васьки загорались глаза: что за тяпня такая?
И делала Лукерья для внучки из толокна тяпню. Посредине блюда островком толоконное тесто, а вокруг молочное море. Весело следить, как убывает «остров» под проворными ложками бабки и внучки. Как не убывать, если такая вкуснотища. А ещё из того же толоконного теста лепила бабушка «сычики». И правда, кулёмки, зажатые в кулаке, были похожи на птичек – сов да сычей. Ткни этим сычиком в сахарный песок и кусай. Не хуже кекса.
– Мы раньше-то слаще репы ничего не едали. Это теперь вам шоколады подавай, – приговаривала бабушка.
Если нападал на Ваську урос: кашу есть не хотела, щи не хлебались, бабушка не ругалась.
– А отец твой, когда маленькой-то был, дак никогда не уросил. Чо не дашь, всё у него нежёвано летело. Хлеб испекошь, корку отломит и давай наворачивать, сухоешко, или тюрю сделает, наломает кусков, молоком зальёт, и пошёл метать – только деревянная ложка о глиняную чашку стучит. Недосуг ему было уросить. То рыбачить надо спешно бежать на Чернушку, то по ягоды на вырубки. И всё босиком. До застылка самого бегал эдак. Летит вприскочку, только щёки красеют да пятки мелькают, – и добавляла. – Гли-ко, огурчик-то на тебя глядит, поешь, жданная.