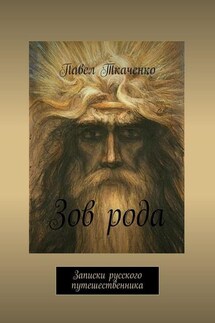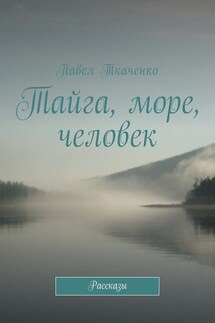Тропой предков. Записки русского путешественника - страница 7
Утром река словно взбесилась. Это уже и не река, а неукротимая стихия. Скорость течения – около пяти метров в секунду. Постоянно слышны глухие удары валунов, сдвигаемых потоком. Шум невообразимый. А небо явно прохудилось – конца-края непогоде не видно. Ненастье создаёт ощущение замкнутого пространства, появляется чувство безысходности. Чтобы отвлечься, я изучал карты, сопоставлял варианты своего дальнейшего маршрута. Таким образом скоротал ещё один день, а к концу третьей ночи дождь постепенно затих.
Утром сквозь разрывы густого тумана проглянули полоски чистого неба. Тайга засверкала красками, и даже мутная грохочущая река казалась обыкновенной и не навевала уныния. После холодного и беспросветного мрака так приятно подставить под солнечные лучи онемевшее тело и хоть ненадолго расслабиться. А вскоре к хорошему настроению добавилась ещё одна радость: закончился участок без карты.
На развилке зверовой тропы мы разошлись с Амуром. Сначала пошли по одной тропке, но она начала уходить от реки, и я вернулся на другую, а Амур побежал назад, видимо, решив, что мы возвращаемся на стоянку. Нам и прежде случалось разлучаться, но собачий нюх делал своё дело. На этот раз после обильных дождей тропы превратились в сплошные ручьи, кусты и трава – в гроздьях капель, и мой запах не задерживался ни на почве, ни на растительности. Шум от реки заглушал мой позывной свист. К тому же путь пересекал осатаневший ручей, через который я едва перебрался по срубленной лиственнице. Возвращаться на покинутую стоянку по скользкому бездорожью в обход многочисленных прижимов, да ещё с больной ногой и грудью, задача непосильная. Вечером на стоянке я на всякий случай выстрелил, надеясь, что Амур услышит сигнал. Но, увы! Наши пути разошлись. Возможно, голод научит его ловить мышей и он доживёт до октября, когда в тайге появятся охотники. Но кормить бестолкового пса никто не станет, а, скорее наоборот, съедят его. И мне стало грустно. Привык я к непутевому попутчику. На следующий день показалось даже, что потеря Амура – это недобрый знак, так как при переправе в брод через Улахан-Комус мощное течение сбило меня с ног. Рюкзак, как гиря, не давал подняться, и меня едва не уволокло на глубину…
Ночами заметно похолодало, сказывается высота. Скоро перевал. Всюду заросли кедрового стланика, сильно замедляющие продвижение. Местами пышные «ковры» ягеля, кое-где примятые копытами оленей. Почти в самом верховье Улахана на обширной наледной поляне появились зонтичные соцветия родиолы розовой, более известной под названием золотого корня. Очень кстати. Несколько корней перекочевали в мой рюкзак для добавки к чаю.
Подъём к перевалу выдался длинный, пологий, и выбрался я наверх к самому заходу солнца. Отдышался, огляделся – и от восторга замер: в кристально-прозрачном воздухе вздыбленные вершины хребтов, оттенённые бронзой заката, выглядели необыкновенными, сказочными, но не застывшими, как на картинке, а живыми, постоянно меняющими свой колорит. Впрочем, описывать подобную картину – всё равно, что передавать словами трель соловья. Я выбрал место для костра так, чтобы ничего не упустить из этого великолепия, чтобы навсегда запомнить сказочное видение. И потом, при мерцании звёзд, размышлял о загадочном переплетении необъятных пространств с древними корнями русских людей. Наша Душа потому и непонятна чужеземцам, что те мыслят и чувствуют иначе, ибо живут в другом пространстве. Русская Душа наполнена ширью и красотой северных просторов; она охватывает славян и скифов, ариев и гипербореев, забытый язык которых запечатлён в географических названиях; в ней смешаны ведизм (от ведать, знать) и правоверное христианство, переименованное в XVII веке в православное. Если русский человек когда-нибудь будет видеть только «звезды» отелей, потускнеет его взгляд и опустеет Душа. Возможно, он добьётся материальных благ, но утратит самое главное – свою сопричастность к Предкам, связь с Космосом, со-Весть…