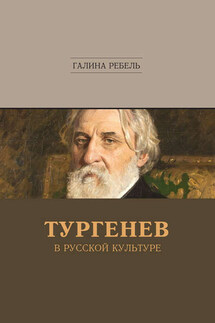Тургенев в русской культуре - страница 2
По точному определению Добролюбова, Тургенев был в высшей степени наделен чутьем «к живым струнам общества», «живым отношением к современности», и если уж он поднимал какой-нибудь вопрос в своих произведениях, это служило «ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества»9. На протяжении всего своего творческого пути Тургенев оставался честным аналитиком действительности, он отвечал на ее вызовы, а не потрафлял вкусам публики. При этом он был убежден: «У Истины, слава богу, не одна сторона; она тоже не клином сошлась» [ТП, 3, с. 29].
Именно эта приверженность Истине и мировоззренческая широта позволили ему, «западнику», сочувственно изобразить «почвенников», агностику – воссоздать поэзию и силу религиозного чувства. По поводу последнего обстоятельства Мережковский писал: «По отношению к христианству, не лицо Л. Толстого и Достоевского, наших богоискателей, а лицо “безбожного” Тургенева есть лицо всей русской интеллигенции, да, пожалуй, и всей западноевропейской культуры»; «Тургенев молчит и молча подходит ближе ко Христу, чем Л. Толстой и Достоевский»10.
Самый либерализм Тургенева был мерой, позволявшей без насилия, искажений и лукавства соотносить и сопрягать явления, которые в сознании и творчестве его великих современников нередко доводились до взаимоисключающих, взаимоистребительных крайностей.
«Мерность» проявлялась во всех гранях и на всех уровнях тургеневского творчества, в его художественной стратегии в целом, что в конечном счете и предопределило ключевое, центральное11 место Тургенева в русской литературе второй половины XIX века.
Рядовое, на первый взгляд, литературное событие 1847 года – появление в первом номере «Современника» в разделе «Смесь» рассказа «Хорь и Калиныч» – оказалось эпохальным. С этого рассказа, который П. В. Анненков сравнил с «путеводной звездой, восходящей на горизонте»12, начинается стабильная, постепенно и постоянно расширяющаяся и углубляющаяся литературно-художественная работа писателя. На протяжении трех с половиной десятилетий именно Тургенев будет держать литературную планку, и художественный ритм, и тонус, и читательский интерес. С точки зрения продуктивности, постоянства, занимательности, проблемной остроты и качества письма ему до середины 60-х годов, в сущности, нет равных, и даже явление Толстого, а затем воскресшего из каторжно-ссыльного небытия Достоевского не оттеснит и не затмит Тургенева в сознании современников.
Именно Тургенев сделал художественную литературу насущной повседневной потребностью для образованного общества. Его романы, по свидетельству современников, читали даже те, кто десятилетиями после окончания гимназии не брал книгу в руки; именно он воспитал поколение читателей, для которых художество стало не только предметом эстетического наслаждения, но и важнейшим стимулом интеллектуального, нравственного развития, а в иные моменты и сильнейшим идеологическим раздражителем. Вот красноречивое свидетельство критика-современника: «Каждое новое произведение г. Тургенева, только что разнесутся слухи в обществе о скором появлении его, ожидается с лихорадочным нетерпением, читается с жадностию; толки о нем не умолкают долгое время; живых людей называют именами лиц, созданных воображением поэта; выражения их и любимые фразы надолго входят в обыкновенный разговор, усвоиваются обществом. Ясное свидетельство того, в каком близком, в каком тесном отношении к русскому обществу находится талант г. Тургенева. Мы до того привыкли к периодическим явлениям произведений этого писателя, что в каждом из них ждем <…>