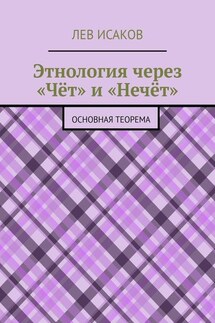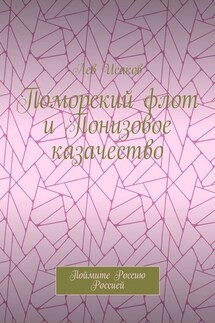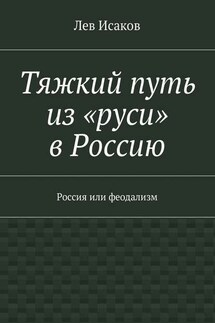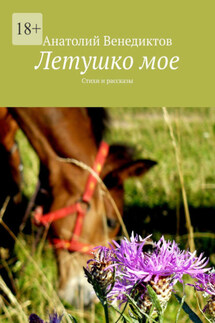Тяжкий путь из «руси» в Россию. Россия или феодализм - страница 18
Небывалый, неслыханный случай – князя на походе бросила и бежала собственная дружина. Даже вполне враждебный всей деятельности Святослава историк С. Соловьёв поражается гадости этого предательства Свенельда, и как-то упускает за личностью социально-обобщённое: бежал не просто воевода-тать, бежала-предавала ВСЯ ДРУЖИНА, ОЛИЦЕТВОРЁННЫЙ ФЕОДАЛИЗМ.
Но за предательством Свенельда следует худшее…
Конфликт Святослава со знатью уже разрастается до того, что охватывает семью: в разгар кампании на Дунае Святослав казнит брата Улеба… Всю зиму 971—972 годов князь ждёт на Белобережье в низовьях Днепра Киевских полков к сроку обычного весеннего прикрытия переволок у днепровских порогов – они не приходят… Предполагать, что за несколько месяцев весть о стоянии князя на взморье не преодолела 200 км. до русских застав на Роси и не разнеслась по Киеву немыслимо; тем более что дружина уже вернулась на Русь, коли Святослав добровольно отпустил Свенельда, как живописует летопись, и уж несомненно известила о его маршруте – впрочем, он и так был очевиден, судовой ратью через пороги. Тем более, что весеннее-летнее прикрытие порогов войском это каждогодняя обязательная рутина, в отсутствие которой теряются годовые внешнеторговые результаты; и удивительным явилось бы не то что она пришла, а то, что она не пришла… Но князю объявили изгойство. Все.
И в последней битве на порогах вместе с князем-героем лёг не цвет русской феодальной знати, а безвестные ополченцы земель, оставшиеся ему верными до конца…
Что бы случилось, если бы Святослав вернулся в Русь, пробился через пороги – и только так! Свенельдов совет уйти степями, бросив земских пешцов, сделал бы князя навсегда ненавистным Землям, т.е. убил политически – это настолько очевидная форма предательства, что его просто не могло быть: Святослав зарубил бы такого советчика на месте.
А если бы удалось?
Балканы потеряны навсегда: нет союзников, болгарская знать перекинулась к Византии; Русь передана сыновьям… Остаётся то, что чуть завязалось на острие копья – Саркел-Белая Вежа, Тмутаракань, Степь. Делать нечего, надо обустраивать, что досталось: пространство чернозёмных степей от Стугны до Волги; сеять их «людно и оружно»; заполнять заставами и градами; прицениваться к Крыму, пока Иоанн Цимисхий и Василий Болгаробойца связаны войнами с Халифатом, Болгарами, соперничеством Малоазийской и Столичной знати… Калита по принуждению!
Византийцы оценили его правильно.
Но улетучились ли с гибелью князя-героя объективные причины, породившие линию Святослава? Удалилась ли Русь из Евразии? Перестали ли копиться центрально-азиатские поколения, набирающие ДНК Темучина? И забылась ли в памяти степи слава Атиллы, Модэ, Кюль-Тегина?
А разве забыли русские книжники времена Готов, Авар, Хазар, Угров; и не тревожил ли воображения призрак грядущего в бесконечной смене пока одолимых степных волн: печенеги, жильберы, ковуи, торки, половцы… Где-то набирается Девятый Вал?
Наконец, 100-летним грузом висело и Святославово наследие: Двух-Киевская территория великой степи от Днепра до Волги и Кавказа. Отказаться от неё в одночасье было как-то дико, поэтому бессмысленно проживали, изживая с ней и политическое наследие Обременителя.
Сложное переплетение Феодально-Игорева и Великодержавно-Святославова начал составляют историософское содержание перипетий политической истории Единой Древнерусской государственности от Игоря Старого до Ярослава Мудрого включительно.