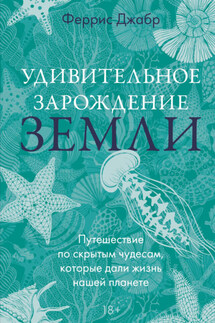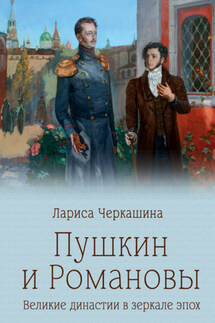Удивительное зарождение Земли. Путешествие по скрытым чудесам, которые дали жизнь нашей планете - страница 8
Через 20 минут мы переместились из относительно прохладного и хорошо проветриваемого участка рядом с «клеткой» в нагревающийся и душный коридор. В то время как на поверхности лежал снег и температура была значительно ниже нуля, на расстоянии полтора километра под Землей, ближе к ее геотермальному сердцу, температура достигала около 33 °C, а влажность – почти 100 %. Мы чувствовали, что тепло пульсирует в окружающем нас камне; воздух стал густым и тягучим, а в ноздри проникал запах серы. Казалось, что мы вошли в преддверие ада.
Вагонетки остановились. Мы вышли и немного прошли до большого пластикового крана в скале. Рядом с основанием крана со стены стекала жемчужная струйка воды, образуя ручейки и лужицы. От них исходил запах сероводорода – источник зловония в шахте. Встав на колени, я понял, что вода полна волокнистой белой субстанции, несколько напоминающей «кожицу» яйца пашот. Кейтлин Казар, геобиолог, объяснила, что эти белые волокна – микробы из рода Thiothrix, которые соединяются друг с другом в длинные нити и накапливают в своих клетках серу, что придает им призрачный оттенок. Здесь, в толще земной коры, в месте, где без вмешательства человека не было бы ни света, ни кислорода, жизнь тем не менее буквально хлестала из самой каменной породы. Этот особый природный очаг получил прозвище «Водопад Thiothrix».
Пока я осторожно прощупывал нити микробов ручкой, биогеохимик Бриттани Крюгер открыла один из нескольких вентилей на кране и начала проводить разнообразные тесты с вытекающей из него жидкостью. Всего-навсего капнув немного воды в голубой портативный прибор, напоминающий трикодер из фильма «Звездный путь» (Star Trek), Крюгер измерила кислотность, температуру и состав раствора. Чтобы собрать обитающие в воде микроорганизмы, она закрепила на некоторых клапанах крана фильтры с крошечными порами. Тем временем Казар и инженер-эколог Фабрицио Сабба изучили ряд наполненных образцами картриджей, ранее подсоединенных к крану. В лаборатории они проанализируют их, чтобы выяснить, попали ли микробы в трубы и выжили ли они в них, несмотря на полную темноту, отсутствие питательных веществ и пригодной для дыхания атмосферы.
Спустившись на другой уровень шахты, мы были вынуждены пробираться сквозь грязь и воду высотой по голень, осторожно ступая, чтобы не споткнуться о затопленные рельсы и камни. То тут, то там поверхность горных пород была украшена тонкими белыми кристаллами – как подсказали ученые, скорее всего, это был или гипс, или кальцит. Когда свет от наших фонарей попадал на стены туннеля под правильным углом, кристаллы мерцали подобно звездам. Еще одно 20-минутное путешествие, на этот раз пешком, и мы подошли к еще одному большому крану, торчащему из скалы. В этой пещере было намного прохладнее, чем в предыдущей, но и находилась она на глубине всего 800 метров под землей, а значит, лучше проветривалась. Скала вокруг крана была покрыта чем-то похожим на влажную глину, цвет которой варьировался от бледно-лососевого до кирпично-красного. Как объяснила Казар, это тоже работа микробов, на этот раз бактерий из рода Gallionella, живущих в богатых железом водах и в процессе жизнедеятельности выделяющих железо в виде закрученных тяжей. По просьбе Казар я наполнил кувшин водой из крана, зачерпнул в пластиковые пробирки богатую микробами грязь и убрал их в холодильник для последующего анализа.