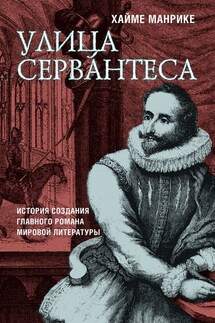Улица Сервантеса - страница 11
До этого мгновения мы видели в Мигеле очередного андалусского деревенщину. Но его декламация все изменила. Когда он закончил чтение, несколько учеников разразились одобрительными возгласами и аплодисментами. Я заметил, с каким уважением смотрит на него наш учитель Лопес де Ойос, прекрасный знаток древних языков. В тот день Мигель стал его любимцем, хотя выказывал совершенное равнодушие к остальным предметам. Казалось, он жил ради поэзии. Надо ли говорить, что я нашел эту черту достойной восхищения, поскольку и сам считал поэзию высочайшим из искусств?
Вскоре после того урока я случайно услышал, как де Ойос в разговоре с другими преподавателями отозвался о Мигеле как о своем «самом одаренном и любимом ученике». Я понял, что отныне всегда буду для него на втором месте, и почувствовал острый укол ревности. «Разве это достойно настоящего кабальеро? – тут же одернул я себя. – Я буду выше подобных глупостей». Так что когда я предложил Мигелю свою дружбу, то сделал это с чистым сердцем.
В тот день, закончив уроки, мы вместе отправились на прогулку. Стоило школе исчезнуть из поля зрения, как Мигель лихо сунул в рот трубку – впрочем, без табака (когда я узнал его лучше, то понял, что для него всегда было очень важно произвести впечатление). Мигель предложил зайти в таверну и побеседовать о поэзии за кружкой вина. Я отказался, сославшись на то, что родители каждый день ждут меня домой к одному и тому же часу, и они вряд ли будут обрадованы, если я приду, благоухая табачным дымом и винными парами. В итоге мы до самой полуночи бродили по улицам и площадям Мадрида, декламируя Гарсиласо де ла Вегу – величайшего поэта Толедо, принца испанской поэзии. В тот вечер любовь к нему накрепко связала нас с Мигелем. Ни один из одноклассников не мог разделить со мной эту страсть.
Свежесть языка Гарсиласо, искренность его чувств и новизна стиля – он привнес в стоячие воды испанской поэтической традиции мощную струю итальянского лиризма – вкупе с тем фактом, что он был воином, окончательно сделали его нашим героем. Расточая похвалы благородному толедцу, Мигель среди прочего заметил: «Он рано погиб – мир не успел его испортить». Я задался вопросом, уж не ищет ли и мой друг похожей судьбы.
В те времена о Гарсиласо знали только молодые барды да любители поэзии. Мы с Мигелем решили, что повторим судьбу де ла Веги и Боскана (лучшего друга Гарсиласо, великого поэта и переводчика). Мы всей душей ненавидели модную тогда сентиментальную поэзию с ее высокопарными оборотами и с горячностью юности поклялись сбросить с трона признанных стихотворцев, чьи имена вызывали в нас такое негодование, что мы даже не оскверняли ими свои губы. Мигель разделял мое желание писать о любви к реальной, живой, осязаемой женщине – а не к туманному образу, который вдохновлял предшественников Гарсиласо.
– Мы будем истинными лириками, – сказал я. – Наши стихи будут исходить из самого сердца. Больше никакой слезливой чепухи!
– Именно! – подхватил Мигель. – Мы – мужчины. Станем поэтами-воинами, как Гарсиласо и Хорхе Манрике. Не чета нынешним сопливым рифмоплетам!
На углах начали зажигать фонари. Я направился к своему дому по соседству с Реаль Алькасаром, королевской резиденцией. Мигель следовал за мной. Когда мы подошли к парадному входу, он ни словом не выдал своих чувств, хотя я заметил, с каким благоговением он разглядывает монументальную дверь, украшенную старинным бронзовым гербом. Я предложил Мигелю зайти.