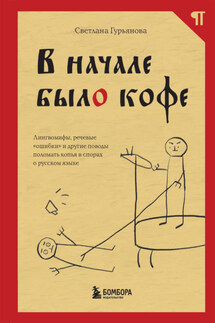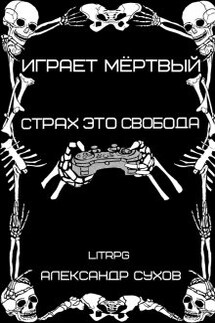В начале было кофе. Лингвомифы, речевые «ошибки» и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке - страница 33
Не было и «золотого времени», когда трава была зеленее, мороженое вкуснее, а «кофе» – только мужского рода. Колебание рода у слова «кофе» наблюдалось с самого начала его употребления в русском языке. Причем, судя по примерам из корпуса текстов XVIII века, сначала у «кофе» преобладал именно средний род.
Вот статья «Описание церемонии» из журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие»[115] (январь ― июнь 1755 года):
«Наконец поднесено посланнику кофе, а после и трем чиновным его туркам».
Это первый пример из Корпуса, где понятен род «кофе», и он средний.
Следующий подобный пример находим у Сумарокова:
«Да и кофе намнясь то же почти показывало; по картам на ту же стать выходило».
(А. П. Сумароков, «Вздорщица», 1770 г.)
«Намнясь» значит «намедни», и речь идет о гадании по кофе.
Но в 80-е годы XVIII века на арену выходит мужской род «кофе» и постепенно начинает вытеснять средний.
Читаем анонимный трактат «О воспитании и наставлении детей» (1783 г.):
«Если варится для детей особенно слабое кофе, то вред от оного состоит только в том, что он слабит без нужды желудок, как то делает всякий теплый и водяной напиток».
Видим в одном предложении и средний род, и мужской.
А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1779–1790 гг.) использует уже мужской род:
«Рука моя задрожала, и кофе пролился».
Но другой писатель того же времени – Н. М. Карамзин – предпочитает средний:
«Зато мы с италиянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили».
(«Письма русского путешественника», 1793 г.)
В XIX веке мужской род слова «кофе» преобладал, но встречались и исключения: например, у Д. Н. Мамина-Сибиряка:
«появилось кофе в серебряном кофейнике».
(«Приваловские миллионы», 1883 г.)
К рубежу XIX–XX веков колебание по роду снова становится заметным. Не брезговали средним родом и классики XX века, которых никак не упрекнешь в неграмотности или незнании родного языка:
«Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный».
(И. А. Бунин, «Нобелевские дни», 1933 г.)
«Я пил мелкими глотками огненное кофе».
(В. Набоков, «Отчаяние», 1936 г.)
«Кофе в чашке стояло на письменном столе».
(М. А. Булгаков, «Записки покойника», 1936–1937 гг.)
«Предметы вывоза – марихуана, // цветной металл, посредственное кофе».
(И. Бродский, «Заметка для энциклопедии», 1975 г.)
Впрочем, в последнем примере средний род, возможно, выбран намеренно, с целью обыграть его ассоциацию с плохим качеством напитка, потому что в другом стихотворении Бродского «кофе» уже «он»:
Еще один аргумент в пользу мужского рода у «кофе» – аналогия со словом «напиток» – тоже несостоятелен. Да, иногда родовые понятия влияют на род слова: «бри» мужского рода, потому что это сыр, «салями» женского, потому что это колбаса… Но здесь мы имеем дело не с правилом, а лишь с нестрогой закономерностью, исключений из которой масса.
Если слово «напиток» повлияло на «кофе», то куда пропало это влияние в других словах? Например, почему у «виски» или «бренди» мужской и средний род равноправны, а «какао», согласно литературной норме, и вовсе только среднего рода? Впрочем, иногда – вероятно, под влиянием «кофе» – в реальной практике появляется и «вкусный какао».
И почему у названий видов кофе – «эспрессо», «капучино», «глясе», «латте» – даже с точки зрения словарей возможен и средний, и мужской род?