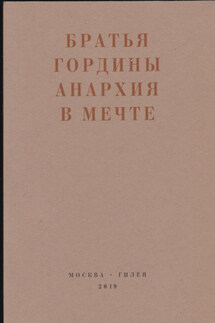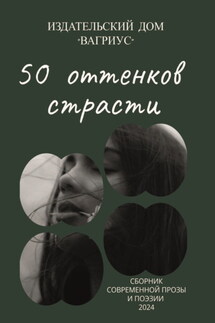В смирительной рубашке. Стихи первых парижских лет - страница 2
В нём как бы в сгущённом виде дан «монпарнасский» Бор. Поплавский, непрояснённый, несдержанный в слове, целиком ещё погружённый в мутное подсознание. Точно ему хотелось в этой торопливой, целомудренной исповеди стряхнуть с себя всю грязь и мерзость, которая облепила его[18].
Современники поэта обращали внимание на «одурманивающую музыкальность» и на «музыкальное очарование» его стихов[19]. В то же время некоторые критики сделали акцент на другой их особенности, едва ли не более важной в контексте различения фаз его стихотворчества. Глеб Струве, в целом нелестно отозвавшийся о его поэзии, высказал мысль о том, что «…сюрреалистический мир Поплавского создан “незаконными” средствами, заимствованными у “чужого” искусства, у живописи…»[20] Будучи более ровными и формально более строгими, чем прежние, «первые стихи» сохраняют ту живописную выразительность, которая присуща всей его поэзии – прошлой и будущей, бытовой или фантастической, иррациональной или натуралистической. Нос ними художник работал, безусловно, более мягкой и более сдержанной палитрой, нежели это можно увидеть в кричащих, порой плакатных константинопольских полотнах или, например, в пёстрых, почти что лубочных картинках «адских» поэм.
Очень любопытное соображение Струве делает закономерной постановку вопроса о взаимном влиянии различных видов искусства в творческом процессе Поплавского, и в частности, о литературности (или музыкальности) его изобразительных работ. Но сведений о художнической деятельности поэта, кроме тех, что попадаются в его дневниках, у нас крайне мало. В основном мы знаем лишь множество всяческих зарисовок, раскиданных по рукописным и машинописным страницам, а также карандашные автопортреты и портреты его возлюбленных и знакомых. При этом произведения, выполненные маслом, темперой, гуашью, акварелью, среди которых были «супрематические» и кубистические, то ли не сохранились, то ли до сих пор скрыты в личных собраниях. О многом, однако, – в том числе о том, что Поплавский вовсе не бросил заниматься живописью, – говорит его участие в выставках (последняя из них, персональная, прошла в 1935 году)[21], а также тот факт, что он был одним из оформителей балов, организованных Союзом русских художников в середине 1920-х.
Рисунок Поплавского в тетради 1921 г.
Кроме того, он постоянно пребывал в мире чужих художественных открытий, будучи не только посетителем вернисажей и студий своих друзей, но и рецензентом творчества Гончаровой, Ларионова, Минчина, Терешковича, Шагала, Шаршуна и многих других. О существовании его живописного наследия в середине тридцатых свидетельствует и информация о посмертном аукционе, на который в составе собранной им коллекции были выставлены и его изобразительные работы[22]. Кстати говоря, именно художником Поплавский назван в одном из полицейских донесений 1929 года, хранящихся в досье его сестры Наталии Поплавской[23]. А годом раньше он написал прозаический автопортрет, в котором есть такие слова: «…к поэзии я способен на уровне великих поэтов, к живописи – несомненно. Кроме того, необычайно музыкален»[24].
Надо упомянуть и о таком ускользающем от нас эпизоде его тогдашней жизни, как поездка в Берлин, разобрав по необходимости некоторые известные подробности. В очерке Юлиана Поплавского, кратко пересказавшего биографию сына, читаем:
…в 1922 году он прожил несколько месяцев в Берлине. Вращаясь в кругу авангардной литературной молодёжи, Б. П. нередко выступал в Берлине на литературных собраниях и художественных вечерах и завёл там интересные писательские знакомства