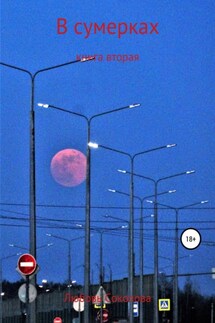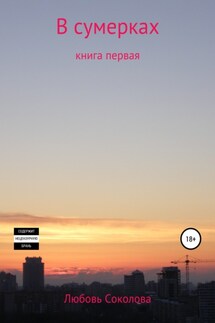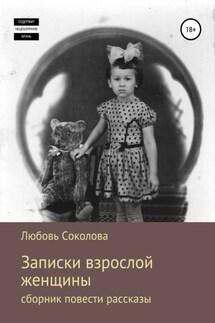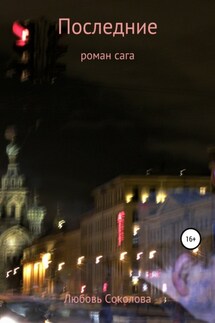В сумерках. Книга первая - страница 17
Прибыли на конечную станцию неизвестно какого числа – счет дням потеряли, пока ехали. Впервые за долгое время вдохнул Михаил наружного воздуха полной грудью, когда из тамбура голову высунул, прикидывая, куда шагнуть. И потом дышал жадно, пусть и не раздышишься на корточках. Правило такое при этапировании: зэк из вагона прыг на перрон – и на корточки. Внизу, на перроне, всегда креозотом пахнет, шпалами. Уборной наносит из-под вагона. Но тут в воздухе угадывалась еще гарь какая-то, привкус металлургический, заводской. Трубы не видны, судил Михаил по хвостам, расчертившим небо. Дым из невидимых труб валил рыжий, белый и черный. Понять бы, куда и откуда ветер дует, а конвой велит голову вниз держать, не глазеть по сторонам. Вперед тоже смотреть нельзя: на уровне лица этапируемых – овчарки, взгляд в упор для них – как вызов, угроза. Михаилу глазеть особо не требовалось. Длинная тень от столба, заметил он, лежит ровно вдоль перрона, а ведь утро, часов шесть, наверное. Вот так, значит, со сторонами света определились.
В зону повезли далеко за город. И повезли-то, вот какая везуха, в открытом кузове. Кто говорил, век воли не видать? Видать волю, не наглядишься! Местные тюремщики нашли всего пару автозаков, а заключенных прибыло два вагона, битком набитых. На чем их развозить по тюрьмам? Стариков, а это в основном бандеровцы, полицаи, «за войну» сидевшие, повезли по-взрослому, автозаками. Уважили. Молодежь диссидентскую – в открытых грузовиках, на низких скамеечках, почти на полу, зато ветерком обдувает, и пейзаж перед глазами.
Москвичи, украинцы, прибалты не могли понять, что за местность. Всё, что восточнее Волги, для них Сибирь. А Крайновы, хоть и не бывали прежде ни разу в этих местах, сообразили, что находятся недалеко от дома. Севернее, но не очень далеко. Родину ведь, как мать, узнаешь даже переодетую. Узнаешь по линии горизонта, по цветам на обочине, по вкусу дождя, по звуку ветра. Каково возвращаться на родину тюремным этапом? Это другой вопрос. А все равно рад был Михаил родине. Шел ему тогда двадцать седьмой год.
Часть вторая
Глава первая. Полковник Федотов и свобода слова
Февраль 1992 года сковал Темь и Таму долгими, как зимняя ночь, морозами. После обманной январской оттепели в воздухе повисли кристаллы изморози. Сталкиваясь друг с другом, они дробились в пыль и продолжали хаотическое движение, удерживаемые на весу восходящими потоками воздуха. Мерцание морозной пыли днем в лучах слабого солнца и ночью в жестком свете уличных фонарей придало городу вид болезненно-фантастический. Явление комментировали метеорологи сначала местные, затем московские. Суть комментариев сводилась к одному: такое бывает, хотя старожилы и не упомнят.
Под прикрытием тумана промышленные предприятия сделали несанкционированные выбросы в атмосферу. Легкие фракции улетели, а тяжелые понемногу оседали, смешиваясь с алмазной пылью. Темчане десятками отправлялись на больничные койки с аллергическими бронхитами. На третьи сутки в стационарах не осталось свободных коек, пациентов укладывали в коридорах. Эпидемиологический порог, однако, не был превышен.
Наконец, морок рассеялся, и напасть обернулась неземной красотой. Всё недавно мерцавшее на весу, осело на стены домов, на фонари, придав Теми вид декорации к спектаклю «Снежная королева». Особенно хороши стали голубые ели у парадного входа здания Темского областного УВД. Изморозь покрыла каждую иголочку на растопыренных лапах. Полковник Федотов, пораженный зрелищем, замер у дверцы служебной «волги». Дежурный офицер проследил взгляд начальника, улыбнулся, давая понять, что разделяет восхищение явлением природы, и впервые заметил, как смахивает тот на Мороза из оперы «Снегурочка». Вчера с женой ходил лейтенант в театр – и вот навеяло. Широкое румяное лицо полковника, глаза в лохматых ресницах под густыми бровями, лихой чуб, выбившийся из-под каракулевой папахи. Ему только бороду приклеить и – добро пожаловать в Берендеево царство.