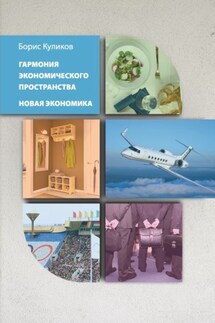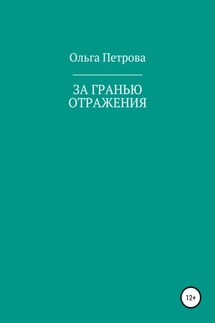В тени регулирования. Неформальность на российском рынке труда - страница 22
Эффект «ухода» говорит о недостаточном предложении труда в неформальном секторе (или, что то же самое, о недостаточном спросе со стороны работников на формальные рабочие места). У работников есть возможность проникнуть в формальный сектор, но они сами отказываются от нее, потому что в неформальном секторе их заработки выше (здесь им не приходится платить за ненужные им социальные блага). Выбор неформальной занятости предстает как результат их рационального решения: взвесив все за и против, они выбирают неформальные рабочие места как более «достойные» с их точки зрения. Никакой очереди на попадание в формальный сектор при этом не возникает.
В этом смысле можно говорить о двух основных типах неформальной занятости – «вынужденной» (ситуация исключения) и «добровольной» (ситуация ухода). Отметим, что такое деление соответствует «недружественной» и «дружественной» традициям в понимании неформальности и является предметом острых дискуссий [Kucera, Ronkolato, 2008]. Вынужденная и добровольная неформальная занятость порождаются во многом разными причинами и ставят перед экономической политикой государства свои проблемы. Но в обоих случаях пороговый уровень производительности оказывается тем «рассекателем», который делит предложение труда на два потока, направляя один в формальную, а другой – в неформальную занятость[12]. Отсюда – возможная тесная связь проблемы неформальности с проблемой бедности: если неформально занятыми действительно чаще становятся работники с низкой производительностью и низкими заработками, то, соответственно, преобладающая часть бедного населения будет концентрироваться в неформальном секторе. Тогда создание условий для активного перемещения работников из неформальной в формальную занятость может стать ключом к решению проблемы бедности.
Схему можно усложнить, введя два дополнительных параметра – величину пособий по безработице, B>u, и полезность от занятия домашними делами, V>h. В зависимости от их соотношения с заработной платой в неформальном секторе, работники, отсекаемые от формального сектора, могут направляться не только в неформальную занятость, но также в безработицу (если B>u > W>nf и B>u > V>h) или экономическую неактивность (если V>h > W>nf и V>h > B>u).
При всей простоте эта конструкция выявляет ключевые точки приложения сил, воздействуя на которые можно регулировать масштабы неформальной занятости. Это, во-первых, улучшение качественных характеристик работников с низкой производительностью (например, за счет инвестиций в их человеческий капитал); во-вторых, обеспечение условий для интенсификации создания рабочих мест в формальном секторе за счет смягчения или устранения встроенных негибкостей на рынке труда (снижение законодательного минимума оплаты труда, ослабление давления со стороны профсоюзов и т. д.); в-третьих, снижение издержек формализации (например, за счет сокращения налогов на фонд оплаты труда или упрощения налогового законодательства); в-четвертых, увеличение связанных с ней выгод (например, за счет увеличения объема и улучшения качества общественных благ, предоставляемых государством); в-пятых, повышение эффективности механизмов инфорсмента.