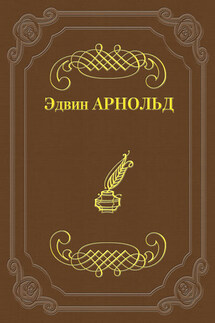«В заговоре против пустоты и небытия». Неотрадиционализм в русской литературе XX века - страница 11
В начале XX столетия (как в Европе, так и в России) под серьезное сомнение была поставлена уже не только ценность и необходимость преемственности, но и правомочность самого понятия «традиция». В кругу авангардистски ориентированных писателей, критиков и ученых зреет «представление о… преемственности, культурной памяти – как неминуемо связанных с эпигонством и не имеющих касательства к подлинной, высокой литературе»[70]. Ю. Тынянов писал, что традиция – это «понятие старой истории литературы», которое теперь «оказывается неправомерной абстракцией»[71]. Воцарившееся в русско-европейской культуре на рубеже XIX–XX веков «неклассическое» сознание принесло с собою, вместо прежних (романтических) экспериментов по испытанию широты и гибкости («эластичности») традиционной системы координат, идею полного освобождения от внешней власти каких бы то ни было общезначимых иерархий. Однако и такое – казалось бы, предельное – «раскрепощение» на практике не имело, да и не могло иметь, характера абсолютного разрыва, безусловного отказа от традиционного наследия. Крушение монументальной системы внешних императивов, конвенциональных опор и общеобязательных правил только сильнее оттенило фактическую непреодолимость общих связей, неминуемой зависимости творца от сложившегося тезауруса культурных смыслов. В то же время избавление искусства от авторитарной опеки, принесшее с собою вместе с головокружительной свободой жутковатое ощущение полнейшей «беспочвенности» (один из ключевых концептов Л. Шестова), диктовало насущную необходимость заново, с небывалой остротой и силой поставить вопрос о глубинном соотношении нового искусства с вечными началами и универсальными категориями мировой культуры. На противоположном авангардизму полюсе философских исканий активизировались попытки проникновения в сущностное ядро традиции, поиски новых обоснований ценности предания; произошел несомненный всплеск интереса к проблеме преемственности и диалога поколений. В этом смысле весьма симптоматичными можно считать устремления таких видных апологетов традиции, как Т.С. Элиот и Г.-Г. Гадамер