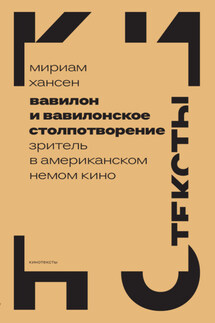Вавилон и вавилонское столпотворение. Зритель в американском немом кино - страница 10
Но как кино, которое по своей природе исключает партиципацию, взаимодействие и саморепрезентации (по Сеннету – признаки театра XVIII века), может рассматриваться как публичное в эмоциональном смысле? В своих рассуждениях об эссе Беньямина «Произведение искусства в эпоху технической воспроизводимости» (1935–1936) Клюге выдвигает идею, что исторически важный водораздел лежит не между кино и «классическими искусствами», но между кино и телевидением или, в случае Западной Германии, всем комплексом приватно присвоенных «новых» электрических медиа. Учитывая глубокие преобразования европейской медиакарты в конце XX века, он делает вывод, что «кино принадлежит классической публичной сфере»31.
По Клюге, утверждение Беньямина, что фильм провоцирует разрушение «ауры», – не более чем гипербола. Если моменты классической ауры и исчезли с изобретением кино, в кинотеатр вошли новые формы ауратического опыта как результат особых отношений между фильмом и аудиторией – структурного сближения фильма на экране и «фильма в голове зрителя». Как и сам Беньямин, Клюге пытается спасти экспериментальные возможности разрушившейся ауры для секуляризованного публичного контекста: элемент взаимообмена («снабдить феномен способностью возвращать взгляд»), интерсубъективность и память. Таким образом, взаимообмен между фильмом на экране и потоком ассоциаций зрителя становится мерой особой потребительской ценности в альтернативной публичной сфере: фильм либо использует нужды и формы восприятия зрителя, либо провоцирует их автономное движение, настройку и самополагание32.
Такая возможность требует участия третьего – другого зрителя, аудиторию как коллектива, театра как публичного пространства, части социальной зоны опыта. Этот аспект зрительства как процесса, организующего опыт, наиболее явственно отличает концепцию Клюге от других кинотеорий и вариантов истории кино. Клюге воспринимает зрительство во множественном числе даже на уровне дискурсивной конструкции. Этот текстуализированный субъект, или потребитель, таргетированный индустрией, не равен эмпирическому зрителю как социально обусловленному индивиду, но составляет аудиторию, имеющую исторически конкретные контуры, свои противоречия и возможности. В то время как троп «фильм в голове зрителя» однозначно указывает на психоаналитическое измерение, он входит в контекст с особой приватной сферой, конституированной случайной социальной аудиторией, определенным местом и способом демонстрации, а также с публичной зоной, которая продуцируется и репродуцируется, апроприируется и оспаривается в кино как одной из множества культурных институций и практик. Самым важным в обусловленности кинозрительства индивидуальными психическими процессами и границами интерсубъективной зоны является для Клюге момент непредсказуемости. Именно неожиданный, подчас спорадический компонент коллективной рецепции делает смотрящих «публикой» (Publikum), или публичной сферой (Offentlichkeit) в подчеркнутом смысле33.
Концептуальную структуру, развивавшуюся изначально в рамках европейской публичной сферы, нельзя автоматически ввести в американский контекст. Разумеется, здесь существует значительное различие. Можно утверждать, что идея публичного как автономного измерения никогда не приобретала статуса нормативной в стране, не бывшей местом ее естественного рождения, которое могло бы делегитимизировать культурную власть феодальных социальных структур и абсолютистского государства. Вместе с тем нельзя отрицать наличие важных параллелей, особенно в плане гендерного подтекста буржуазной публичной сферы, иерархической сегрегации публичного и приватного как территорий мужского и женского. Более того, капиталистическая основа современных форм публичной жизни не позволяет считать их независимыми национальными институциями.