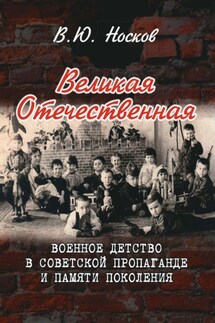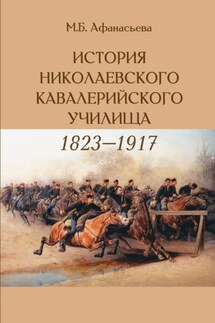Великая Отечественная. Военное детство в советской пропаганде и памяти поколения (на материалах Донбасса) - страница 7
Историко-антропологические подходы к изучению проблематики детства применяют авторы в рамках исследования Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления Донбасса: социально-экономического развития региона (А. А. Саржан)[72], фашистской оккупационной политики (И. С. Тарнавский)[73], материального обеспечения матерей и детей (Т. М. Удалова)[74], детских домов (М. А. Соловей)[75]. И. М. Гридина ввела в научный оборот сочинения учащихся 5–7-го классов женских школ г. Константиновки на тему: «Что я пережила во время оккупации немцами города Константиновки». Данный исторический источник очень важен для исследования восприятия детьми военных событий, но автор ограничивается рассмотрением лишь отдельных элементов повседневности советских детей и подростков[76]. Проблемы военного детства в Луганске изучают Т. Ю. Анпилогова, И. А. Зверуха, Г. И. Королева[77].
Проблема места детства в советском смысловом пространстве, а также его отражения в пропаганде и общественном сознании в 1920–1930-х гг. привлекала значительный интерес историков, культурологов, социологов, литературоведов. Исследователями рассматривается широкий диапазон проблем – от формирования общего концепта советского детства (И. Н. Арзамасцева[78], Т. М. Смирнова[79]) – до целого спектра частных прикладных вопросов, связанных с героями детской литературы (И. В. Кукулин)[80], школьными программами (А. И. Щербинин)[81], местом образов Ленина и Сталина в идее советского детства (К. А. Богданов)[82], темой детства в советской драматургии (В. В. Гудкова)[83], играми (В. А. Сомов)[84], др. Проведенные исследования свидетельствуют о нарастании патернализма советской политической системы, исключительной роли и идеологической нагрузке образа счастливого советского детства в предвоенной советской идеологии.
Изучение образов детей и детства в советском смысловом пространстве 1941–1945 гг. не вызывало такого значительного исследовательского интереса, как соответствующая проблематика применительно к 1930-м гг. На период Великой Отечественной войны часто переносятся характеристики предвоенных образов при том, что принципиальные изменения, вызванные войной в советской идеологии, достаточно хорошо изучены[85]. В контексте общего интереса историков к образам общественного сознания изучаются идеологемы и конструкты, в состав которых входили детские образы: советской женщины, государства[86], Отечественной войны[87], Родины-матери, особенно подробно – образ врага. Е. С. Сенявская[88], М. Л. Волковский[89], Л. И. Батюк[90] акцентируют внимание на том, что одним из главных маркеров образа немецко-фашистских захватчиков в советской пропаганде было определение «детоубийцы», при этом характеристика жертв агрессии, в первую очередь детей, включается авторами в смысловую структуру образа врага.
В ряде работ осуществляется анализ детских образов в отдельных средствах пропаганды, литературе и искусстве (также выполнявших пропагандистские функции). А. В. Фатеев[91], С. Г. Леонтьева[92], К. А. Богданов[93] при изучении детской литературы анализировали ее соотношение с официальной идеологией, включение в воспитательный процесс. Л. А. Пинегина, проанализировав факторы обращения советских художников к теме детства, разработала классификацию образов ребенка в советской живописи периода Великой Отечественной войны