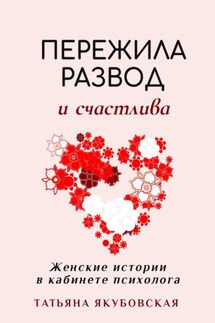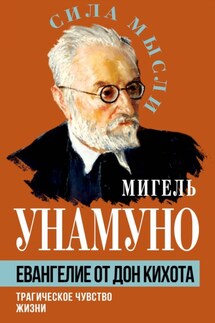Вещи в теле. Психотерапевтический метод работы с ощущениями - страница 6
непосредственно работает с ощущениями, «внутренне» их использует.
Как реальной силы, заметно сказывающейся на состоянии здоровья наших сограждан, этой традиции скорее нет. Интересы социального эксперимента, на который пошла наша страна, потребовали совершенно особых личных качеств от его участников. И наклонность к интроспекции среди них не числилась. Более того, ее проявления считались едва ли не контрреволюционными. А вспомнить «битвы за урожай» и другие «сражения» на сельскохозяйственных, промышленных и прочих фронтах – на их фоне до ощущений ли в теле?! Эпоха выдвинула своих героев. Но доблесть их состояла не в том, чтобы быть здоровыми, а в том, чтобы быть полезными обществу.
Одна коллега рассказала о том, как в перестроечные времена она принимала группу прибывших в Москву американских феминисток. Вместо долгих объяснений она просто пригласила их в городскую баню… Феминистки заплакали. Они очень живо представили, как должны были относиться к себе женщины, которых они там увидели, и что могло обусловить возникновение таких форм. Особенно поразили их исковерканные суставы.
Хотелось бы сказать: зато души какие у многострадальных российских женщин! И действительно, несмотря ни на что, их отличает способность к состраданию и самопожертвованию. Надо обладать недюжинной силой характера, чтобы перенести все, что перенесли наши отцы и матери, деды и бабушки. Вот если бы еще к этому характеру и опыту страданий добавить культуру «хранения» себя! Культуру отработки последствий переживания обид, забот, беспокойства. Хочется верить, что этот труд внесет вклад в формирование такой культуры.
Так обстоит дело с отношением к себе, и в частности к сигналам тела, на бытовом уровне. К счастью, это не означает, что «во внутренней» традиции нет иного отношения к ощущаемому.
Институт православной церкви, в особенности византийская монашеская традиция исихазма (священнобезмолвия), нашедшая свое развитие именно в среде русского монашества, предлагала очень внимательно относиться к тому, что формируется в сознании верующего.
На меня производит очень сильное впечатление структурность, топографичность описания опыта «хранения ума» христианскими подвижниками. Задолго до появления каких-либо психотерапий они описывали фазы вхождения в страстное состояние и свои способы выхода из тупиковых переживаний. При этом переживания не всегда, но нередко уподоблялись растениям, животным.
Известны выражения «семена», «корни» страсти. «Лисицы живут в душе злопамятной, и звери укрываются в возмущенном сердце», – писал в V веке преподобный Нил Синайский (оставил мир в 390 г.; скончался около 450 года). У него же: «Воду возмущает упавший камень, и сердце мужа – худое слово». «Как дым от тлеющей соломы беспокоит глаза, так памятозлобие – ум во время молитвы»[3]. Эти описания больше, чем просто красивые литературные обороты, они являются документальными свидетельствами об опыте внутренней работы.
Предметное восприятие души и страстей читается и в следующем отрывке преподобного Исихия: «Отличительное в Ветхом Завете первосвященническое украшение (чистая золотая дщица на груди, с надписью: «Святыня Господня», – Исх. 28, 36) было преобразованием сердечной чистоты, которое внушает нам внимать дщице сердца нашего, не почернела ли она от греха, дабы (если окажется такою) поспешили мы очищать ее слезами, покаянием и молитвою»