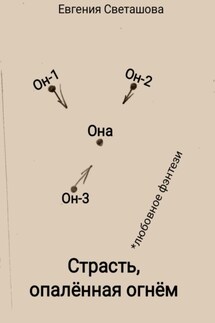Весна в Канныне и другие встречи - страница 4
– А ты как? – спросила.
Он пожал плечами, не зная, что сказать. Потом побежал – без зонта, под дождём, с прижатым к груди школьным рюкзаком. Дома мать всплеснула руками, увидев, какой он мокрый. Он лишь сказал:
– Я уже не ребёнок. У меня просто был выбор.
Позже, когда он сидел на кухне, грея ладони о чашку с ттоппоки, мать положила рядом с ним горячий хлеб с пастой из сладкого красного боба. Он взял кусочек, надкусил – и впервые понял, как странно сочетаются вкус детства и ощущение того, что ты сделал что-то правильно.
Он запомнил этот день не потому, что впервые простудился. А потому, что впервые почувствовал – внутри него кто-то вырос.
Забитый мяч.
Хансу всегда боялся смотреть отцу в глаза. Не потому, что тот был жестоким – нет, скорее потому, что отец всегда молчал. В этом молчании было что-то большее, чем слова. Твердое, как гранит, и холодное, как металл зимой.
Отец работал на стройке с тех пор, как Хансу себя помнил. Возвращался поздно, ел быстро, ложился молча. Иногда они смотрели футбол по телевизору, и отец что-то тихо комментировал, вроде:
– Плохо прикрыл ближний угол. Видишь?
Хансу кивал, даже если не видел. Ему просто хотелось, чтобы отец говорил.
Однажды в старшей школе Хансу не пришёл на важный матч. Он не сказал тренеру, не сказал друзьям. Он просто не пошёл. В тот день он сидел на крыше школы, смотрел на серое небо и думал, что ему никогда не стать тем, кого отец мог бы уважать.
Вечером отец ничего не сказал. Только положил рядом с ним на стол старый футбольный мяч – потёртый, слабо накачанный.
– Это твой. Ты сам себе выбрал путь. Просто иди до конца, – сказал он. – Я не играл, потому что не было времени. У тебя оно есть. Не трать его на сомнения.
Хансу тогда не ответил. Но через неделю он вышел на поле. Не потому, что надеялся выиграть – а потому, что хотел быть тем, кто хотя бы попробует.
Сейчас, много лет спустя, он сам стал отцом. Его сын споткнулся на школьной дорожке, упал, не сдержал слёзы. Хансу подошёл, поднял его, смахнул пыль.
– Видишь? – сказал он, – больно, но ты уже встал. Это главное.
Он поймал себя на голосе – тихом, как у его отца. И в этом голосе впервые услышал: любовь не всегда говорит громко.
Кофе на крыше.
Сеул начинался с шума. Утром – гудками, шагами, голосами из открытых лавок. Но на крыше пятиэтажки в районе Ённам всё было иначе: только ветер, голуби и лёгкий аромат растворимого кофе. Именно сюда приходила Джиён, когда всё становилось слишком громким.
Она работала в книжном магазине у станции Хапчон. Утром раскладывала новинки, днём варила кофе постоянным читателям, а вечером поднималась на крышу – просто посидеть, глядя, как Сеул зажигается огнями.
Однажды на крыше оказался кто-то ещё. Юноша лет двадцати пяти, в сером свитшоте и с камерой через плечо. Он извинился, хотел уйти, но она махнула рукой:
– Оставайся. Это не моя крыша. Просто… моя привычка.
Он сел неподалёку, достал термос, налил себе кофе. Они не говорили. Город шумел внизу, а между ними стояла тишина – не неловкая, а та, в которой человек человеку не мешает быть собой.
С тех пор они встречались почти каждый вечер. Не договариваясь, не обещая. Иногда делились печеньем, иногда молчали по полчаса. Но в один вечер он не пришёл. И в другой – тоже. Только через неделю, когда Джиён уже решила, что он просто был прохожим в её временном мире, на крыше она нашла записку.