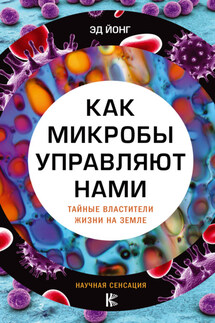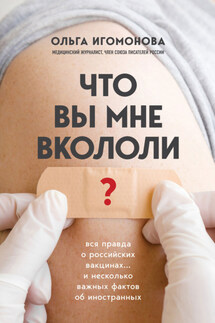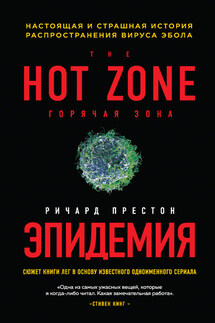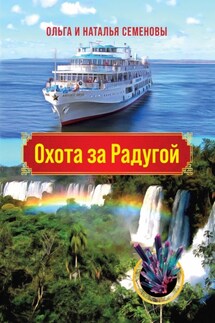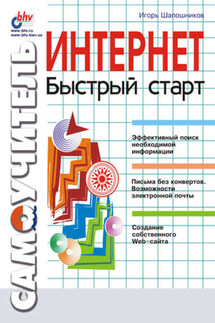Вирусы. Драйверы эволюции. Друзья или враги? - страница 47
Таким образом, будет разумным предполагать, что главной движущей силой диверсификации риновирусов является наш (и наших обезьяноподобных предков) иммунный ответ. Способность риновирусов к диверсификации оказалась критически важной для их успешности в роли вездесущего патогена, который существует за счет доступности восприимчивых нетронутых хозяев. Каждый из нас не раз болел простудой, и каждый раз заболевание, скорее всего, было вызвано особым, отличным от других, штаммом риновируса; наши дети особенно восприимчивы к простуде именно по этой причине – они никогда не сталкивались с большинством серотипов риновирусов. Дети – самая плодородная почва для инфекции, потому что снабжены только теми антителами, которые нейтрализуют только те риновирусы, с которыми они уже имели дело. Простуда – это движущаяся мишень для нашего иммунного ответа; вирусы не только вызывают легкое заболевание с симптомами, которые позволяют нам общаться с другими людьми и заражать их; они также способны к выраженному разнообразию, что позволяет им поражать максимальное число разных хозяев. Риновирусы не имеют возможности почивать на лаврах; распространение каждого штамма вируса зависит от повторных циклов репликации. Вымирают ли некоторые риновирусы, покидая организм очередного хозяина, сменяясь вновь возникшими серотипами? Последнее наиболее вероятно, первое едва ли возможно. Многочисленные серотипы риновирусов циркулируют в человеческих популяциях одновременно, и ни один отдельно взятый серотип не является настолько успешным, чтобы истощить пул своих хозяев и навсегда исчезнуть. Географические миграции и рождение восприимчивых детей снабжают вирусы новыми хозяевами, восприимчивыми к инфицированию любыми серотипами.
Гримасы патогенеза
Я уже упоминал о том факте, что в некоторых случаях риновирусные инфекции протекают тяжелее, чем обычно. В большинстве случаев заболевание бывает легким, и дело ограничивается поражением верхних дыхательных путей, но иногда инфекция поражает и более глубокие, нижние дыхательные пути. Вполне оправдан вопрос, объясняется ли этот феномен различиями между вирусами, или все дело в хозяине. Здравый смысл подсказывает, что тяжесть простуды зависит от больного, а не от серотипа вируса, который его поразил. Тяжелое течение болезни часто регистрировали у пациентов, неспособных на мощный антивирусный иммунный ответ. Это стало очевидным, когда сравнили тяжесть течения простуды с уровнем антивирусного медиатора интерферона-α, который секретируется пораженными клетками (Message, Johnston, 2001; Copenhaver et al., 2004; Sykes et al., 2012). Пациенты, у которых происходит вялая мобилизация интерферона, болеют тяжелее. Пациенты, страдающие легочными заболеваниями, и люди с ослабленным иммунитетом тоже более восприимчивы к тяжелому течению риновирусных инфекций. Тем не менее один новый таксон риновирусов, РВЧ-C, недавно открытый учеными (Lee et al., 2007), ассоциируется с более тяжелым течением вызываемой им простудой и с поражением нижних дыхательных путей, в особенности у больных, страдающих бронхиальной астмой. Этот сегмент риновирусных инфекций является, по понятным причинам, предметом особого внимания и озабоченности для пациентов и их лечащих врачей, но в смысле эволюции риновирусов эта форма заболевания едва ли имеет большое значение, так как встречается редко. Маловероятно, что последствия этого редкого заболевания будут лучше служить эгоистичным целям риновирусных геномов. Особенно это вероятно, если тяжесть заболевания все же зависит от хозяина, а не от генетической вариабельности вируса, которая может стать объектом естественного отбора. Если бы тяжелое течение заболевания у некоторых индивидов определялось на уровне геномной последовательности риновирусов человека и если бы эти изменения обеспечивали вирусу существенные преимущества в плане передачи инфекции, то можно было бы ожидать большей частоты таких тяжелых заболеваний. Поскольку, однако, этого не происходит, представляется более правдоподобным, что эволюция патогенности штаммов риновирусов уже достигла оптимального баланса между надежностью передачи болезни и патогенностью. Геномы наилучшим образом приспособленных риновирусов являются, по-видимому, продуктом самых частых встреч риновирусов с их хозяевами, у которых типичная клиническая картина с легкими и ограниченными по локализации симптомами служат самым отчетливым признаком патогенности. Небольшое число заражений, проявляющееся более тяжелыми симптомами, как представляется, не является движущей силой эволюционных изменений риновирусов. Риновирусы едва ли нуждаются в более высокой патогенности, и едва ли она у них разовьется. Преобладание давления очищающего естественного отбора на геном позволяет предполагать, что за время долгих отношений между людьми и риновирусами эволюция уже довела эти отношения до оптимального уровня.