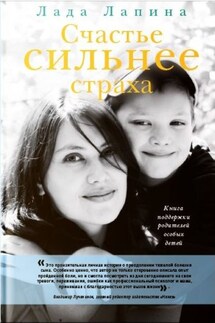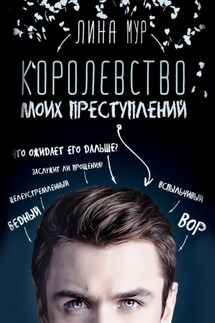Включи свою внутреннюю музыку. Музыкальная терапия и психодрама - страница 7
Морено интересовался музыкальной терапией, он не использовал в полной мере возможности музыки в процессе своей психодраматической работы. Однако его творческий подход открыл путь другим терапевтам, которые развили то, что он открыл.
Идея «игры» на воображаемом инструменте напомнила мне вечер психодрамы в Институте Морено в Нью-Йорке в 1970-е годы. Перед началом сессии опоздавшая Ханна Винер, замечательный директор, попросила меня, пианиста, исполнить что-нибудь для группы в качестве разогрева. Хотя я и сам обычно испытываю определенный страх выступления, но в тот вечер я был рад оказать ей услугу. Была лишь одна проблема – в театре не было рояля. Однако в мире психодрамы на такие вещи мало обращают внимания. Я согласился, вышел на сцену под громкие аплодисменты, сел перед воображаемым роялем.
Когда публика смолкла, я начал «играть». Однако я не просто изображал физические телодвижения при игре. Я играл и отчетливо слышал каждую ноту, это была соната фа-диез минор Клементи, опус № 26. Я как раз изучал в то время это замечательное произведение, и я играл с глубокой концентрацией и чувством, вдохновляемый сосредоточенным вниманием и «слушанием» моей аудитории. Когда я завершил первую часть, аудитория стоя устроила мне овацию, а также преподнесла мне на сцену воображаемый букет. Фактически это был один из самых грандиозных моих музыкальных экспериментов и, возможно, мое лучшее исполнение этого произведения. В этом отношении мне удалось полностью реализовать мою идеальную концепцию этой работы Клементи от начала до конца без ограничений, обычно диктуемых плотью, клавишами, молоточками и струнами.
Хотя в тот вечер такая цель не ставилась, но этот вид музыкального «исполнения» может послужить хорошим ролевым опытом для музыкантов с боязнью публичного выступления, и «игра» в таком виде безопасной реальности может придать уверенность при подготовке к публичному выступлению. Это, конечно, предвидел Морено в своей работе со скрипачом. Мое выступление тем вечером останется со мной как особый момент психодраматического опыта.
В течение 1970-х годов я часто посещал открытые психодраматические сессии, которые проводились бывшим Институтом Морено на Вест Сайд, в Манхэттене. Сессии сами по себе были замечательным социальным экспериментом, по графику их вели разные директора в разные дни недели. Эта психодрама были открыта для публики, и любой человек мог прийти и принять участие в них за незначительную плату. В результате эти институтские сессии стали настоящим театром жизни, временно произвольно собравшим вместе случайных людей. Сессии были бесконечно привлекательны, непредсказуемы и разнообразны, в них могло случиться все, что угодно (и часто случалось!).
Посещая их и участвуя в ролях вспомогательных «я», я стал особо интересоваться динамическими свойствами тех, кто играл роли психодраматических дублей. Задача дубля – стать продолжением протагониста, настолько погрузиться в его чувства, чтобы помочь ему выразить самого себя. Например, хороший дубль может обладать достаточной интуицией, чтобы ощутить, что протагонист сдерживает себя от открытой вербализации сильного чувства, чего-то такого, что может быть действительно необходимо выразить по отношению к вспомогательным «я», играющим роли значимых других в жизни протагониста.
Роль дубля в такие моменты становится критической, особенно когда сильные и противоречивые чувства закипают у протагониста и ищут выхода. Если протагонист нуждается в выражении своей агрессии и, соответственно, в проявлении чувства, порой трудно выражаемого, такого, как «Я тебя ненавижу!», он может быть эмоционально освобожден от этого, если дубль способен интуитивно почувствовать такую необходимость и первым сказать это