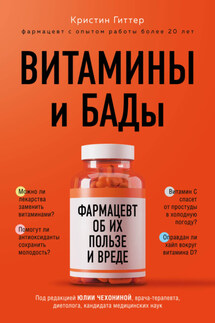Власть научного знания - страница 8
Другой аспект критики в адрес рациональной модели заключается в том, что политика и наука занимают противоборствующие позиции, прежде всего по причине эпистемологических и коммуникативных границ. Авторы «модели двух сообществ» (two-communities-model) и в том числе Каплан (Caplan, 1979) также сомневаются в реалистичности линейной рациональной проблемы, полагая, что отношения между наукой и политикой в принципе сложные. Эти две сферы формируются под воздействием разных логик и разных культур[6]. В то время как ученые стремятся к истине, политики заняты проблемой власти. Луман в своей теории функциональной дифференциации (2007) рассматривает этот аспект на более общем уровне, говоря о проблематичности коммуникации между социальными системами. Коммуникация между политикой и наукой проблематична и, следовательно, «крайне маловероятна».
Когда идеи институционализируются в политике и тем самым становятся реальностью, сама собой возникает мысль о том, что произошло то, что должно было произойти. Другими словами, связь между знанием и политикой представляется непроблематичной, более того, неизбежной. Задача историка и критически настроенного социолога – разоблачить эту кажущуюся неизбежность. Мишель Фуко ввел понятие дискурса для того, чтобы описывать реальность идей и практик определенной исторической эпохи. Он использует понятие археологии для того, чтобы обратить внимание читателя на те усилия, которые необходимы для анализа и деконструкции этих дискурсов. Разумеется, исследователи в области социальных наук осознают, что социальные роли ученых и тех, кто принимает политические решения, отличаются друг от друга и что акторы из этих двух сфер, по сути, живут в разных эпистемических вселенных. Маловероятно, что эти роли пересекутся. «Маловероятно» не значит «невозможно», однако возможность такого пересечения должна быть тщательно изучена.
Те, кто активно действует в обеих сферах, говорят о том, что почти невозможно выйти из той роли, которую ты воплощаешь в данный момент – несмотря на все твои знания и сочувствие к «другим» ролям. Рассмотрим один пример из повседневной жизни: автомобилист хочет доехать до своей цели и при этом представляет угрозу для переходящего улицу пешехода. Через несколько минут тот же самый пешеход может действовать таким же образом, если он сядет в машину и поедет по улице. Автомобилист, который только что вел себя довольно бесцеремонно на дороге, тоже может оказаться в роли пешехода: вот он припарковал свою машину и идет в магазин на другой стороне улицы. Теперь он будет ругаться на безответственных автомобилистов, пытающихся его «переехать». Всем нам знакомы подобные примеры из повседневной жизни: они показывают нам, как сложно, более того, иногда невозможно быстро перенести опыт из одной роли в другую и исправить свое поведение. Скептики могли бы на это ответить, что только несчастные случаи (которых, возможно, в последний момент удалось избежать) могут спровоцировать тот шок, который необходим для пересмотра рутинных практик.
Хернс (Hernes, 2008: 258) делится своим личным опытом постоянного перехода из мира (социальной) науки в мир политики и обратно. Он отмечает, что политики и представители социальных наук относятся друг к другу с благожелательным равнодушием, что «политики хотя и финансируют исследования, не сильно заинтересованы в их результатах; исследователи же описывают мир, не надеясь на его изменение». Хернс разрабатывает типологию ролей в обоих мирах