Воденников в прозе. Лучшие эссе - страница 7
Ну был у него в его поэтическом запасе такой символический жест. Нам ли осуждать певца «Вечерних огней»? Не нам! Вот и близко его знавшие тоже не осуждали.
«Чудит барин! – скажет кучер на кухне, попивая чай из блюдечка. – Опять на университет плюнул! Неспроста!» – «Да уж, наверное, есть за что!» – ответит кухарка Дарья.
И, как всегда, окажется права.
Да, Афанасий Афанасьевич не любил либералов, не любил Университет, хотя там и проучился шесть лет, и вообще не любил демократии.
И ему было за что ее не любить.
Дело в том, что Афанасий Афанасьевич был посмешищем. В глазах молодых, новых, прогрессивных и, надо сказать, не очень чутких на ухо современников. Полжизни промучившийся как рожденный до брака с фамилией Фёт (да-да, это была еще и ё), желавший вернуть себе потомственную фамилию Шеншин, Афанасий Афанасьевич не был ценим прогрессивной критикой.
В год своего семидесятилетия Фет напишет стихотворение «На качелях», которое, конечно же, гениально.
Вот оно.
На что и получит в печатном виде от язвительного Виктора Буренина (кстати, сочинившего прочувствованное стихотворение на гражданскую казнь Чернышевского) дословно следующее: «Представьте себе семидесятилетнего старца и его «дорогую», «бросающих друг друга» на шаткой доске. Как не обеспокоиться за то, что их игра может действительно оказаться роковой и окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков!»
Расстроенный Фет пожалуется Полонскому: «Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье ее трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марией Петровной качаюсь».
Но в партере уже безостановочно шикали. А некоторые, особо равнодушные, уже встали и шли в буфет. Зал катастрофически пустел.
Но больше всего расстроил Афанасия Афанасьевича писатель Федор Достоевский. Тот написал о нашумевшем (во всех смыслах) лиссабонском землетрясении и спросил с присущей ему обостренной нервностью: что, дескать, делать с португальским поэтом, напечатавшим в эти роковые дни что-нибудь вроде следующего: «Шепот, робкое дыханье, трели соловья»?
И сам же ответил: «Через сорок лет – памятник. А сейчас? А сейчас – казнить!»
И Афанасия Афанасьевича казнили. Попросту забыв.
Ну, бегает там какой-то малахольный душитель свобод, прижимистый кулак и крепостник, распекает работника Семена, из-за которого он потерял 11 рублей, и проклинает мужиков, гуси которых зашли в его, сатрапа и осколка прошлого, пшеницу. Гуси-гуси, га-га-га! Жаль, что только гуси, надо было ему туда еще и свинью подложить!
К слову сказать, об этих своих хозяйственных подвигах Афанасий Афанасьевич сам писал в ненавидимый всей прогрессивной российской интеллигенцией журнал Каткова, в скучный и консервативный «Русский вестник». Как будто желая подставиться еще больше. И это в тот момент, когда все русское общество ликовало по поводу наконец-то отмененного в России крепостного права!
То «Шепот, робкое дыханье» в разгар лиссабонского землетрясения, то гуси – в момент освобождения крестьян. Умел Афанасий Афанасьевич быть своевременным! Этого у него не отнять.




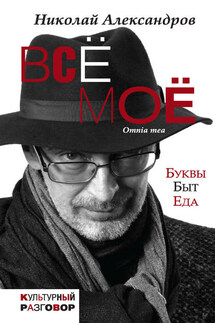


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



