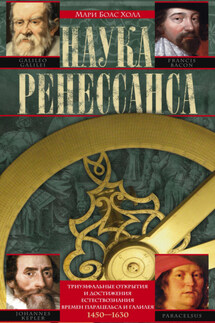Волки купаются в Волге - страница 7
– Да, это глупо. И какая у тебя цель в жизни? Мировая революция?
– Ха-ха. Ну да. Но есть и более конкретные цели. Например, мое обучение в институте почти бессмысленно. Но зато по окончании его я брошу гранату в «Макдональдс».
– Я надеюсь, ночью?
– Я тоже надеюсь.
– Это у тебя такая мечта?
– Да, мечта более подходящее слово.
Деряба сидела удрученная.
Я вышел позвонить. Умышленно я не торопился. Когда я положил трубку и осторожно заглянул в комнату, Деряба сидела на коленях у Шалтоносова. «Надо сваливать, – подумал я, – самое время. Сейчас еще рюмку выпью и вперед».
Но за рюмкой подмигнула другая рюмка, я опять рассиделся. Мы слушали Doors, и Шалтоносов, отдавая все-таки дань своей юности (ему только исполнилось восемнадцать), говорил, что, хоть он и учил немецкий, а не English, ему понятно всё, о чем поет Моррисон. И «Гражданскую оборону» слушали, подпевали Летову: «Амнезия, амнезия, всё позабыл. И мне не страшно, мне теперь не страшно».
Дерябина клевала носом. У нее в подпитии раньше нее самой пьянела полная широкая грудь, но теперь и грудь, обтянутая теплым зимним сарафаном в мелкую черно-белую клетку, была тверезая и сонная, как сама Деряба. Она попросилась спать, мы с Димой перешли в другую комнату.
Вечер закруглился бы безмятежно здорово, если б Шалтоносов не засобирался к кому-то неподалеку в гости, хоть и обещал вернуться мигом.
– Слушай, Шалтоносов, у тебя тут нет в округе каких-нибудь хороших девок? Привел бы мне одну, – попросил я.
– Ха-ха-ха. Такие девки, что у меня есть, тебе не подойдут.
– Они некрасивые?
– Почему? Есть красивые.
– Тогда вполне подойдут.
– Нет, Царь…
– Можно, я с тобой?
– Да нет, я один.
Зачем он ушел? Не понимаю. Проснулась Деряба. Вышла, взлохмаченная коротким сном, села в кресло.
Шалтоносов вернулся действительно очень скоро, через полчаса. Сразу направился из прихожей в комнату. С глупой улыбкой я преградил ему путь.
– О-о-о… – протянул Шалтоносов. – Понятно. Так. Бери девушку и сваливай отсюда.
– Митя…
– Всё, – отвернувшись, сделал отрицательный жест рукой Шалтоносов. – Уезжайте, я хочу остаться один.
Я разрыдался. Я что-то лепетал, о том, что я подлец, что всё погибло, что, в то же время, ничего толком не было, не успело произойти, и опять – что я мерзавец. Дерябина смотрела на меня с отвращением.
Мы с Дерябиной вышли на улицу. Снегу навалило хорошо, – словно уж неделю как снег. Мы пошли через лес по обочине пустой, без единой машины, проезжей части. Заходили в лес. Потом поймали какой-то порожний обледенелый катафалк, сговорились до моего дома.
Понятно, ничего у нас с Ирой не возобновилось, потому что нечему было возобновляться. Шалтоносова на следующий день в институт не явился.
Пришел он только через три дня. Я подошел к нему. Стал опять что-то лепетать, очень уж мне не хотелось терять его. Но он был неприступен. Сказал только мне со всей серьезностью: «Ты просто очень хороший человек…». Я сам люблю парадоксы, но не до такой же степени.
Через месяц Деряба, как фея, спустилась к Шалтоносову, больному гриппом, в изголовье. Говоря простым языком: навестила его и осталась навсегда.
Я вечерял у Мимозовых. Пил водку, заедал вареньем. После случая с Дерябой я переполнился кристальными побуждениями, больше не строил между дела куры жене Мимозова, был тихим и прозрачным, скромно сидел и скромно пил рюмку за рюмкой.
Мимозову стало плохо. Мы с Мимозихой раздели его. Я взялся огромного, распаренного, покрытого черными волосами Мимозова массировать, приговаривая: «Ничего, Алешенька, сейчас всё станет хорошо».