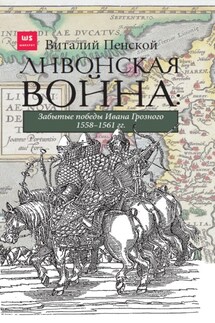Волшебники - страница 22
Знали бы они, какой нудьгой может обернуться изучение сверхъестественного! Даже простейшие чары согласовывались, как глагол с подлежащим, с сотнями разных факторов: временем дня, фазой луны, целью и обстоятельствами наведения. Все это содержалось в таблицах и диаграммах, напечатанных микроскопическим шрифтом на пожелтевших листах ин-фолио. Половину каждой страницы занимали сноски с исключениями и особыми случаями, которые надо было заучить наизусть. Не думал Квентин, что магия – такой неточный предмет.
Было в ней, однако, что-то еще помимо зубрежки и упражнений – что-то, никогда не всплывавшее в лекциях Марча. Квентин не мог бы определить, что именно, но без этого ни одни чары не подействовали бы на окружающий его мир. Сила воли? Предельная концентрация? Ясность мысли? Артистизм? В общем, так: чтобы твои чары сработали, вкладывайся в них весь, с потрохами.
Он чувствовал, как они срабатывают, чувствовал, как слова и жесты входят в контакт с таинственным магическим субстратом Вселенной. Пальцы у него теплели и начинали оставлять следы в воздухе, а сам воздух как будто сгущался, оказывая легкое сопротивление рукам, губам, языку. Мозг бурлил, как от смеси кофеина и кокаина. Он оказывался в самом сердце большой могущественной системы – он сам был ее сердцем. Он знал, когда его чары работали, и ему это нравилось.
В столовой Элиот все время садился со своими друзьями. Эта компания, занятая исключительно собой, то и дело разражалась демонстративными взрывами смеха и очень мало интересовалась другими студентами. Что-то отличало их от всех остальных: похоже, они четко знали, кто они есть, и не нуждались в общественном подтверждении своего статуса.
Квентин, терзаемый беспардонной изменой Элиота, поневоле довольствовался обществом других первокурсников. Общество было не так чтобы очень светское: все больше молчали и оценивали друг друга, словно прикидывали, кто кого победит в смертельном интеллектуальном бою. Другими словами, эти девятнадцать закаленных бойцов очень походили на Квентина, а он не привык общаться с себе подобными.
Единственным человеком, с которым он, как и весь первый курс, очень хотел бы сблизиться, была Элис, создательница стеклянной зверюшки – но ее застенчивость, при всей академической продвинутости, доходила до такой степени, что даже заговаривать с ней не стоило. На вопросы в столовой она отвечала односложно и шепотом, не поднимая взгляда от скатерти, – создавалось впечатление, что ее гложет какой-то безмерный стыд. Элис была почти патологически неспособна смотреть кому-то в глаза и постоянно завешивала лицо волосами. Став помимо воли предметом всеобщего внимания, она испытывала тяжкие муки.
Квентин представить себе не мог, кто мог так запугать эту девочку – с ее-то талантами! Стремление победить ее в честной борьбе понемногу уступало желанию взять ее под свою защиту. Счастливой он ее видел один-единственный раз, когда Элис, оставшись одна, пустила камешек через весь фонтан и угодила между ног каменной нимфе.
Жизнь в Брекбиллсе подчинялась строгим правилам, доходящим во время трапез почти до уровня фетишизма. Обед подавали ровно в половине седьмого – опоздавшим не разрешалось садиться, и они ели стоя. Преподаватели и студенты сидели за одним бесконечным столом с мистической белизны скатертью и разномастными серебряными приборами. Освещение обеспечивали батальоны уродливых канделябров. Кормили здесь, вопреки традиции частных школ, отлично, на старый французский лад. Преобладали солидные блюда середки века вроде тушеной говядины и лобстера-термидора. Первокурсники под началом сурового Чамберса заменяли официантов и обедали после всех остальных. Третьему и четвертому курсам разрешалось выпить бокал вина, пятому, или финнам, как их почему-то все называли, – два бокала. Четверокурсников было всего десять вместо положенных двадцати, и все вопросы на эту тему решительно пресекались.