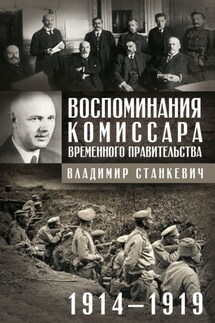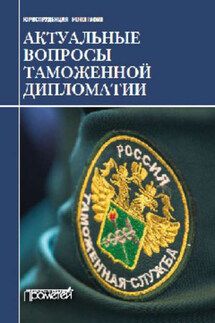Воспоминания комиссара Временного правительства. 1914—1919 - страница 2
2. Первые дни войны
В день получения текста австрийского ультиматума Сербии я выехал из Петербурга и сведения о войне получил уже у себя дома, в литовской глуши. В первый момент, исходя из принципиального пацифизма, я говорил о необходимости соблюдать духовный нейтралитет в борьбе, тем более что германская опасность после выступления Англии представлялась крайне незначительной, и можно было ожидать, что через пару дней война закончится. Такому отношению способствовала и среда, которая, хотя и привыкла к русскому господству и была проникнута русской культурой, тем не менее, а может быть, именно поэтому всегда была склонна поиздеваться над неудачами русской государственности. Даже обращение к политикам вызывало больше иронических усмешек, чем серьезных надежд. «Что стоило, – шутили провинциальные политики, – издать это обращение за несколько месяцев перед войной… А теперь – не будет ли это только военной хитростью?»
Но из столицы приходили совсем иные вести. Заседание Думы с торжественным объединением большинства партий, с речами, решительно заглушавшими сдержанные и уравновешенные голоса трудовиков и социал-демократов… Речи представителей национальностей, которые, казалось, были искренне захвачены всеобщим подъемом… Все это создавало бурные потоки новых воинственных настроений, разливавшиеся широко по всей стране, которым трудно было противостоять.
Кроме того, война разгоралась совершенно по-иному, чем предполагали. Бельгия пройдена, французская армия на границе разбита, французское правительство переехало в Бордо. Серьезные разговоры о невозможности удерживать Париж, в виду которого уже появлялись германские разъезды. Все это создавало впечатление страшной германской опасности. Это впечатление усиливалось сообщениями о чудовищных изобретениях германской военной техники, о 42-сантиметровых пушках, о непреодолимости военной организации.
Пока речь шла еще о боях на французском фронте, дело казалось более отвлеченным. Но вот, после ряда наших успехов на всех фронтах, пришло сообщение о поражении под Зольдау. Необычный тон военного сообщения, где надежды на успешность новых мер для парализации удара возлагались на Господа Бога, целый ряд тревожных слухов, отступление наших войск из Восточной Пруссии, бои на Немане – все это дало ощутить громадное преимущество германской военной техники и создало неясную тревогу за успешный исход войны и опасения, что она продлится не недели, а, во всяком случае, долгие месяцы.
И вот чуть ли не к концу первого месяца мои настроения резко изменились. Помню две свои статьи, напечатанные в то время, – обе очень патриотические… Одну из них некоторые называли «исторической», а другие «истерической» – никто из представителей левых партий не высказался в пользу приятия войны с такой безоглядностью.
«Немцы, – писал я, – воинственная нация, использовавшая все достижения науки для военных целей, напала на мирные народы, не умеющие воевать. Для того чтобы предотвратить искажение культурного развития, необходимо и мирным народам научиться воевать. Как Петр Великий в минуту опасности после Нарвского поражения перелил в пушки церковные колокола, так и мы должны бросить все наши духовные ценности и способности на алтарь войны, отдавая не только материю и живую силу, но принося наиболее тяжкую жертву – свой дух». И в качестве примера я предлагал приступить к организации в высших учебных заведениях курсов по военным предметам для того, чтобы заинтересовать молодежь войной, военной техникой и вызвать к жизни тех талантливых военачальников, которых у нас не хватало.