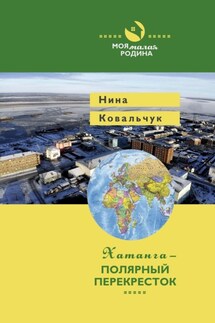Воспоминания. От крепостного права до большевиков - страница 17
– Я пьяницам руки целовать не дам. Как вы, скверные дети, себя ведете? Вот я вас сейчас высеку. Няня, принеси розог.
– Так я их и дам, – сердито сказала няня. – Вы бы лучше высекли свое сокровище – Мишеньку.
– Что? – грозно крикнул отец. – Да ты, старая, с ума, что ли, сошла!
Но няня ничуть не смутилась:
– Мишенька один виноват.
– Молчать, неси розги! – крикнул отец.
Но няня не двигалась.
– Не слышала?
– Пальцем тронуть не дам, – спокойно сказала няня. – Мне их поручила покойная, я за них ответственна перед Богом.
– Ну, ну, – сказал отец и ласково потрепал няню по плечу. – Ну, веди своих пьянчуг гулять.
С тех пор Миша уже не звал нас клопами, а «кутилами-мучениками» и дразнил пуще прежнего. Сколько этот милый человек бессознательно причинил нам страданий – словами не передать. Сколько мы из-за него пролили слез. Сколько унижений и незаслуженных наказаний пришлось нам перенести!
– С тобой шутят, а ты позволяешь себе старшему грубить! Ступай в угол.
– Но я ничего не сделал, Миша, это несправедливо.
– Что?! говори только. Сам не знаешь еще, что такое справедливость, а смеешь рассуждать? Пошел в детскую.
И идешь в детскую, или тебя ведут туда за ухо.
Само по себе наказание возмущало меньше, чем несправедливость его. Чувство справедливости особенно развито в детях – это у всякого ребенка его святая святых, но, увы, мало и теперь, кто бы это понимал.
Но, повторяю, не один только Миша, а все большие бессознательно делали все, чтобы ожесточить и испортить нас. И даже те, кто действовали для нашего блага, тоже портили нас.
В гостях у «деда»
Когда в семье кто-нибудь был болен, нас, маленьких, во избежание заразы отправляли к «деду». Это был брат нашей бабушки и комендант Петропавловской крепости, старый генерал Мандерштерн26. Старик и вся его семья имели страсть к детям вообще и к нам двоим в особенности. И там нас тоже портили, беспрекословно исполняя все наши фантазии и прихоти. Удивительное воспитание давали тогда детям; для одних они были бременем, для других – игрушками, для третьих – кумирами, но людьми никто их не признавал.
Пребывание в крепости было для нас сплошным праздником. О страшной крепости большие, не наши, конечно, а чужие, говорили шепотом, оглядываясь, и потому и нам, хотя мы и знали, как там хорошо, она все же казалась каким-то страшным заколдованным миром.
Слыхали мы и от няни, что там в толстых каменных стенах живут какие-то несчастные, которых никто никогда не видит и с которыми один дедушка милосерден. Дед действительно был на редкость мягкой души человек, и в городе его называли не иначе как «Заступница усердная». Однажды, когда мы гуляли в дедушкином саду, его старый управляющий показал нам узенькие темные окна в стенах казематов и сказал, что декабристы сидели там.
– А кто они – разбойники? Они страшные?
– Нет, дети, они были господа, богатые и знатные.
– Зачем же их посадили туда?
– Они против самого Царя взбунтовались.
Даже сама поездка в крепость была очаровательна.
У спуска около Мраморного дворца нас ждал большой комендантский катер деда. Двадцать четыре матроса в белых как снег рубахах держат поднятые вверх белые весла, точно крылья. Старший, с медалями и орденами на черном мундире, стоит около рулевого.
– На воду! – командует он. И белые крылья, как один, опускаются.
– Отчаливай! – приказывает старший, и белые люди подаются вперед, назад, и катер стрелой летит к черным грозным воротам крепости. Мы с замиранием сердца входим через глубокие темные своды; против них белая церковь с высоким золотым шпицем, из которого каждую четверть с музыкой бьют часы. Налево, не доходя до них, белый дом коменданта. У дверей застывшие с ружьями парные часовые. Напротив – белая гауптвахта, и всякий раз при появлении деда бьют в колокол и солдаты выскакивают и становятся в ряды.