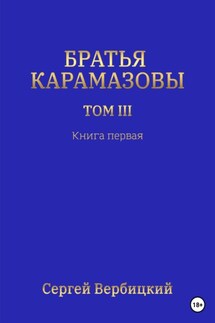«Возвращение чудотворной» и другие рассказы - страница 28
В течение ближайших дней Жохов объехал все городские церкви. Увы, впустую. Большинство из храмов, которые он удостоил своим визитом, были открыты в недавние времена. А потому их украшали софринские иконы, по большей части – печатные. Конечно, попадались и отдельные дореволюционные образа, судя по всему, пожертвованные старыми прихожанами. Но они не интересовали Бориса Семеновича – в его лавке перебывало немало подобных икон.
Жохов уже подумывал было прекратить бессмысленные поиски. Однако на всякий случай решил заглянуть в еще один храм. А именно: в Успенскую церковь, находившуюся на заброшенном окраинном кладбище. Хотя хорошо понимал: смешно ожидать, что именно там находится сгинувшая неведомо куда после 1946 года Владимирская икона. Ведь невозможно было придумать более неподходящего места для чудотворного образа, чем эта крохотная, убогая, отдаленная пригородная церквушка, где и по большим праздникам вряд ли набиралось более десятка прихожан.
А поскольку в тот вторник в Успенском храме и вовсе был выходной, то в нем царили тишина и безлюдье. Лишь в притворе возле свечного ящика притулилась женщина неопределенного возраста, читавшая какую-то пухлую книжку со множеством торчавших из нее закладок. Услышав скрип двери, она подняла голову, окинула Жохова рассеянным взглядом и снова уткнула нос в книгу… Еще одна пожилая женщина чистила подсвечник возле правого клироса. Некоторое время она искоса наблюдала за Борисом Семеновичем. Однако, убедившись, что он не пытается взойти на амвон или обойти аналой с неположенной стороны, как это обычно делают любопытные «захожане», успокоилась и вернулась к своей работе…
…Внутри Успенский храм имел весьма плачевный вид. Потемневшая от времени и копоти роспись на потолке, изображающая сонм святых, предстоящих пред Господом, была едва различима, голубая краска на стенах местами свисала лохмотьями, покосившийся иконостас с остатками позолоты, казалось, вопиял о помощи. Как ни странно, икон здесь было много, куда больше, чем в Преображенском соборе. Правда, среди них Жохов обнаружил лишь одну Владимирскую икону, да и то достаточно поздней работы: начала ХХ века. Он уже собирался выйти из храма, как вдруг…
Под сводами старинной церкви. 1918 г. Худ. Борис Кустодиев
Окна притвора Успенской церкви были сплошь уставлены иконами. Судя по всему, настоятель храма счел их малоценными, и потому распорядился поместить туда. Там было несколько дешевых бумажных образков в проржавевших жестяных окладах, выцветшая фотография Казанской иконы Божией Матери в пластмассовой рамке, явно принесенная сюда за ненадобностью родственниками какой-нибудь покойной старушки, аляповатое самодельное гипсовое Распятие, покрытое «серебрянкой»… А в самом дальнем углу стояла донельзя почерневшая от грязи и копоти, потрескавшаяся икона… Пресвятой Богородицы Владимирской. Похоже, очень старая.
Жохов насторожился, как охотничий пес, почуявший добычу. И в памяти у него мгновенно всплыло дореволюционное описание чудотворной Владимирской иконы. Он перечитывал его так часто, что в конце концов запомнил наизусть:
«Главной святыней обители является древний чудотворный образ Божией Матери Владимирской, находящийся у правого клироса храма, выстроенного в Ея честь местным помещиком князем Наволоцким. Он помещается в резном позолоченном киоте орехового дерева, пожертвованном в обитель благочестивым Н-ским купечеством. Киот украшен бархатным златотканым балдахином работы инокинь Екатерининского монастыря. Образ имеет размер 8 ½–6 ½ вершков, и покрыт сребропозлащенной чеканной серебряной ризой 84-й пробы весом 28 фунтов, с 26 яхонтами и пятью изумрудами. По краю ее имеется чеканная надпись: «устроена сия риза на сумму, собранную с богомольцев при настоятеле монастыря архимандрите Иларии». Венчик на ризе сделан из червонного золота… Икона украшена приношениями многочисленных христолюбцев, из каковых следует отметить покойного архиепископа Н-ского Нафанаила, пожертвовавшего во святую обитель свою архиерейскую панагию в виде двуглавого орла, в середине которой помещен крупный изумруд… Особого внимания заслуживают находящиеся перед чудотворным образом четыре серебряные лампады работы известного санкт-петербургского мастера Степанова, пожертвованные в обитель в ознаменование 900-летнего юбилея Крещения Руси приснопамятным Н-ским купцом первой гильдии Ксенофонтом Антипатровым…»