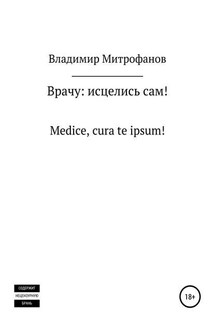Врачу: исцелись сам! - страница 12
Поплавский начинал "греметь" с конца восьмидесятых, но за годы перестройки Россия настолько ему осточертела, что он какое-то время даже жил в Германии, но там ему отчего-то не понравилось. Он как-то говорил, когда приехал назад: "Германия – не для русских, она – для турок. А наша Россия все-таки – хоть сколько-то, хоть на чуть-чуть, но для русских, хотя бы, даже если пусть только по языку". Не исключено, причиной такого неприятия Германии могло быть какое-либо случайное происшествие или житейская ситуация. Так бывает: вроде и город хороший, а если тебя там обворовали или обидели, то навсегда остается против него предубеждение. Один знакомый рассказывал, что в Германии прямо возле дома, где они с женой остановились, чуть ли не прямо у них на глазах немцы зарезали эфиопа, и он сам не раз видел, как большими группами ходили по улицам бритоголовые. Они хрипло орали "хайль" и вскидывали руки в фашистском приветствии, а полиция ехала рядом и им не мешала.
Однажды, будучи по каким-то делам в Италии, Поплавский встретил там одного типа, который уехал из России еще в самом начале девяностых. Жизнь его по большому счету не удалась, и ему нужно было кого-то в этом обвинять. До отъезда из страны он был преподавателем какого-то гуманитарного ВУЗа, а вот чего он там преподавал – Бог знает. Уехал и уехал, но он почему-то всегда искренне радовался неудачам России, и если там случалось что-то плохое, непременно злорадствовал: "Я же говорил, что они там полные придурки!", любые же ее успехи выводили его из себя: "Просто повезло!" Он считал, что во всем виновата его родина, сделавшая его таким, каким он был. Он в принципе ненавидел все русское и всю Россию, по любому поводу говорил: "В этой поганой стране…" Он так глубоко и яростно ненавидел покинутую им страну, что этому наверняка должна была быть какая-то серьезная причина. Но, в конечном счете, мечта его сбылась, и теперь он жил на Западе, потихоньку освоился, где-то подвизался на полубесплатных работах просто за еду. Когда Поплавский встретил его в Риме, он пил воду из фонтана (говорят, если набирать в струе, то там она чистая). Надо сказать, со стороны вид у этого типа был довольно жалкий. Он представлял собой что-то вроде интеллигентного бомжа. Сбежав в самый разгар кризиса начала 90-х, он до сих пор оставался под тем же впечатлением нищей и убогой страны, которую когда-то покинул, и был абсолютно уверен, что все там так и осталось, поэтому ко всем встречаемым соотечественникам относился со снисхождением. Поплавский, который встретил его совершенно случайно, был этим просто потрясен и потом рассказывал: "Поначалу я даже хотел ему денег дать, но потом увидел, что это – просто говнюк!" Они, Поплавский с подругой, тогда после ресторана отдыхали в тени на известной площади Навони – как раз у знаменитого фонтана, где бывший доцент набирал воду в пластиковую бутылочку. Однако после этой встречи Поплавский напугался: он почувствовал, что постепенно начинает превращаться в такого же типа – как бы взглянул на себя со стороны.
На Поплавского именно на Западе почему-то всегда производили неприятное впечатление разные уличные развлекатели, приехавшие из бедных стран: балалаечники в русских рубашках, кукольники с марионетками, замершие скульптуры и мимы, подвизающиеся на торговых улицах европейских городов.
Короче, примерно через три года после отъезда Поплавский вернулся в Россию. Впрочем, все ожидали, что, вернувшись, он вновь тут же запросится назад в Германию – небось, отвык от питерской-то грязи. Но обстановка за это не столь большое время изменилась и, к удивлению вернувшегося журналиста, у него в Питере зарплата оказалась существенно больше, чем в Германии, где он все это время получал только пособие и редкие гонорары. Впрочем, он и теперь ездил туда довольно часто, так как за три года эмиграции почти свободно овладел немецким и заимел необходимые знакомства. Кроме того, вернувшись в Россию, он продолжил работать на некоторые западные издания, поставляя туда, как от него и требовалось, исключительно негативную информацию о положении дел в стране. Понятно, недостатка в таких материалах не было. Он даже стал известен в определенных кругах своими критическими статьями о первой чеченской войне, зверствах федеральных войск. Что делать: ничего другого не печатали, и он такую информацию выдавал, являясь для медленного поднимающейся России кем-то вроде повзрослевшего Павлика Морозова. Одно время ему за это очень неплохо платили. Более всего требовали информацию с места боевых действий с фотографиями, и он сам не один раз ездил на Кавказ. Но, уверовав в собственную неуязвимость, он в компании с какими-то правозащитниками сам ухитрился попасть в заложники – в самый что ни на есть настоящий зиндан. Провел он в том зиндане, кажется, не очень долго, но с месяца два точно. И они действительно сидели в настоящей яме, как в повести Толстого "Кавказский пленник", но к его ужасу все было реально и гораздо более жестоко. Их там постоянно били, пугали и унижали. На них иногда буквально мочились, а скудную еду кидали прямо на землю. Каждый день они, как рабы, вкалывали на хозяина: копали канавы, пилили дрова. Когда они работали, местные дети обожали кидать в них камнями. И очень больно. От такой жизни заложники завоняли поначалу, казалось, нестерпимо, но местные и сами воняли ужасно, и все вокруг там воняло и поэтому через какое-то время вонь уже никого не беспокоила. Потом откуда-то пришел отряд спецназа и убил всех бандитов и вообще, кажется, всех вокруг. Когда заложников вытащили из ямы, все было уже кончено. Парень-боевик, который только что управлял их жизнями, как хотел, лежал тут же убитый, раскинув руки, с заголенным животом и в одном ботинке. Поплавский потом рассказывал, что ему на какую-то долю секунды стало даже жалко этого молодого парня, постоянно бившего его и притащившего сюда, как осла, на веревке. Это был известный психологический феномен, – так называемый "стокгольмский синдром" – странное необъяснимое чувство симпатии заложников к своим мучителям и, напротив, чуть ли не злобы к своим освободителям. Нередко заложники потом начинают утверждать, что к ним относились очень даже хорошо, и защищают своих похитителей. И у Поплавского возник точно такой же стокгольмский синдром, – только самый маленький – крохотный синдромчик, – буквально секундный. Там в яме он прекрасно понял, что при раскладе в пользу ЭТИХ, ЭТИ голову ему отрежут в самую первую очередь, не задумываясь, и всю его семью вырежут без каких-либо моральных колебаний и даже без особых эмоций. Соседи по яме настолько ему осточертели за два месяца, что он тут же и наколотил одному из них по роже. Поразительно, что освобожденные тогда правозащитники позже публично обвинили освободивших их военных в излишней жестокости.