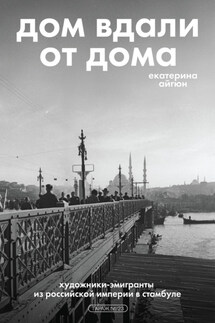Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы - страница 44
Уже после Фестиваля молодежи и студентов я впервые услышал о технике монотипии от моего учителя, художника Юрия Васильева[42], который, в свою очередь, когда-то тоже был учеником моего учителя и тестя Евгения Леонидовича Кропивницкого. Они поддерживали отношения, и как-то Евгений Леонидович предложил пойти к Васильеву и посмотреть его вещи в этой технике. В принципе Кропивницкий с иронией относился к таким экспериментам, говорил: «Абстракция – замечательно, я и сам делаю абстрактные картины, но если мне дать дюжину совсем молоденьких учениц, предоставить им холсты и краски, то, уверяю вас, дней через десять они у меня также начнут делать прекрасные абстракции».
Но в мастерской Васильева было удивительно. Он считал необходимым попробовать себя едва ли не во всех ранних направлениях XX века, от сюрреализма до абстракции. Когда мы пришли к нему, помню, в мастерской была невероятная, огромная картина, где Дон Кихот спускается по какой-то уходящей в бездну лестнице на своем коне вместе с Санчо Пансой; по технике там была и абстракция, чувствовалось и влияние Ван Гога, и импрессионизм, – он считал нужным применять разные стили одновременно. Но самой удивительной была другая вещь – огромный полуобработанный ствол дерева в центре мастерской, в который он вбивал, ввинчивал, вклеивал найденные мусорные предметы, а также рисовал на нем[43]. Собственно, это уже был объект или инсталляция, хотя тогда мы не знали, как это назвать и к чему отнести.
И все же, когда подуло свободой, мы стали гораздо более информированными. Если вернуться к молодежному фестивалю, та выставка, первая такого рода, дала нам многое для понимания происходящего. Знаменитостей среди участников, конечно, не было, но были представлены все направления, в том числе абстрактный экспрессионизм. Один американец[44] публично проводил сеанс, во время которого он, как Поллок, расплескивал краски по холсту. Тогда же прозвучало имя Анатолия Зверева. Мы по привычке искали смысл в том, что видели, считали обидным слово «декоративность» и понимали, что эта живопись больше, чем «декоративность». Наше отношение к новому тогда определялось очень просто: все, что было нам незнакомо, – все хорошо и интересно; мы принимали подобные вещи на ура, едва услышав о них, и даже прежде, чем увидим.
Однажды в связи с таким подобострастием случилась курьезная история. Я не помню, где и когда мы познакомились с Ильей Глазуновым, но он над нами коварно подшутил, когда мы пришли к нему в мастерскую группой, человек восемь художников. Его мастерская была в однокомнатной квартире на Садовом кольце. Хотя уже тогда нас удивляло, что какой-то студент из ленинградской академии получил однокомнатную квартиру в Москве. Конечно, прежде он обошел всех знаменитостей и прославился уже после своей первой выставки в Центральном доме работников искусств. В среде интеллигенции весьма многие на той выставке нашли его очень талантливым. Может, там и познакомились. В мастерской у Глазунова мы увидели каталог парижской выставки Бернара Бюффе с дарственной надписью. В этом смысле Илья Глазунов – удивительный человек, он видел такие вещи значительно раньше всех. И тут он стал нам рассказывать, что случайно открыл художника, который живет за много километров от Москвы, в глуши, а мы, возможно, заинтересуемся и сможем его поддержать. Дальше мы стали смотреть работы якобы этого художника, но в них не чувствовалось индивидуальности, просто абстрактные работы, в каком-то смысле нам уже знакомые, но в целом мы нашли их вполне приемлемыми. Сработало наше всегдашнее отношение – все, что необычно, – хорошо. И тут выяснилось, что Глазунов сам нарисовал их, чтобы показать, что мы ничего в искусстве не понимаем, разыграл нас