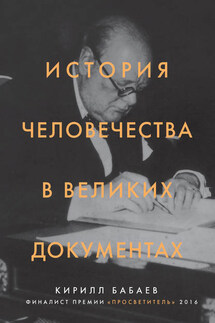Введение в африканское языкознание - страница 36
– независимые личные местоимения, употребляющиеся со значением фокуса или эмфазы субъекта в широком смысле;
– префиксальные показатели субъекта действия глагола;
– суффиксальные показатели субъекта состояния;
– суффиксальные показатели объекта глагола;
– независимые личные местоимения прямого объекта;
– суффиксальные показатели притяжательности [Дьяконов 1988].
При сравнительном анализе они обычно рассматриваются вместе, так как во многих языках объединены общим происхождением из праязыковых форм, некоторые из которых восходят к афразийскому состоянию. Например, др.-егип. nt-k ‘ты’ (м. р., субъектное, независимое), kw ‘тебя’ (м. р., объектное, независимое), -k ‘ты’ (м. р., субъектное, связанное), -k ‘твой’ (м. р., притяжательное, связанное).
Противопоставления многочисленных серий личных местоимений и показателей лица во многих современных языках нивелировались, однако следы более древнего состояния по-прежнему заметны. Личные местоимения также изменяются по родам и двум или трём числам, включая в некоторых языках рудименты двойственного числа. В чад-ских и кушитских языках можно обнаружить формы инклюзива и эксклюзива 1 л. мн. ч., однако выводить их на праязыковой уровень нет оснований: скорее они были образованы под влиянием других языков Тропической Африки, где категория клюзивности очень распространена.
Система глагольных значений строится на аспектуальном противопоставлении перфектива – имперфектива. Эта оппозиция восходит к праязыковому состоянию, при этом перфективная форма не маркировалась, а в качестве праязыкового показателя имперфектива реконструируется формант *-a-, сохранившийся в семитских, берберских, части кушитских и чадских языков. Другим глагольным формантом, возводимым на праязыковой уровень, считается показатель каузатива *-s-. Видовременные и модальные формы глагола исторически образовывались при помощи богатейшей внутренней флексии: заменой, удалением, удвоением или подстановкой корневых гласных, геминацией согласных, а также суффиксацией и префиксацией. По семитологической традиции формы основ, при помощи которых образуются залоговые значения, называют породами: следы этих пород сохранились, помимо собственно семитских, в древнеегипетском, берберских и отдельных кушитских языках. Породы представляют собой деривативные формы глагольной основы, образованные по определённой схеме, при этом каждая порода содержит полную парадигму форм личного спряжения. Породы образуются при помощи редупликации корня, префиксации и суффиксации.
Многие современные афразийские языки утратили внутреннюю флексию или сохранили её лишь в окаменевших формах, перейдя на аналитический способ маркирования глагольных значений при помощи клитических показателей – частиц, вспомогательных глаголов и пр. Чадские языки, например, восприняли характерный для языков Западной Африки способ маркирования грамматических значений глагола с помощью клитических местоименных показателей, предшествующих неизменяемой форме глагола, ср. в хауса:
na gina ‘я построил’ (перфектив);
in gina ‘чтобы я построил’ (субъюнктив);
zan gina ‘я построю’ (футурум);
naa gina ‘если я построю’ (кондиционалис) [Smirnova 1982: 56–57].
В то же время в эфиосемитских и некоторых кушитских языках продуктивным остаётся архаическое префиксальное спряжение личных форм глагола, ср. в геэз (семитская семья):
tə-qattəl