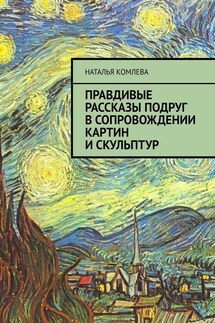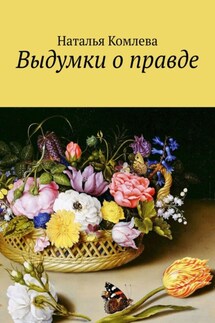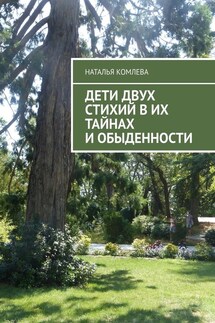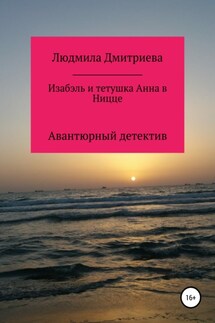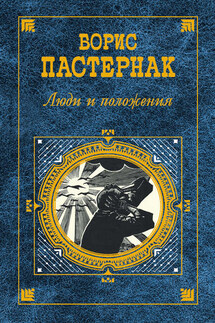Выдумки о правде - страница 22
– Эй, Ваня, зачем Айлыпа убил?
Брат лежал молча, однако мерное дыхание спящего прекратилось. Вдруг вскочил Терентий:
– Ты зачем меня никонианским именем позвал? Во истинном крещении мне другое имя дали!
Гаврила молча жёстко смотрел на него. Спросил:
– Акинфий велел?
Терентий повесил голову, почесал плечо, отвернулся.
– Не наше с тобой дело! А ты как дознался?
– Ты мне лучше вот что скажи: ты зачем его жизни-то лишил? Золотое блюдо к нему носил, на Акинфия волхвовал? Где блюдо-то, Теря?
– Хозяину скажешь?
– Что ж я, дурак – против Акинфия идти? Да и ты мне брат, не леший башкирский.
– И про лешего знаешь?
– Всё мне ведомо, – важно сказал Гаврила, развивая успех, хотя про лешего сказал просто к слову. – Эй, Ваня, скажи мне всё, как сам ты знаешь, а я тебе помогу.
– Да если я Акинфию скажу про тебя…
Дверь открылась, и вошла хозяйка Терентия, молодая и красивая Глафира. Хотела позвать мужа завтракать. Увидела деверя, поздоровалась, но не удивилась: знала, что у братьев разные дела были, про которые лучше помалкивать, а какие – про то им самим ведомо, и не бабье это дело. Вот и теперь муж мотнул головой: выйди, мол. Глафира молча закрыла дверь.
Гаврила обернулся к брату, ответил:
– Ну и будет с тобой, как с Зюзей, вот что в болоте-то утопили. Зюзя – он зюзя и есть: простофиля. Башкой-то не думает, а под чужие кулаки только её подставляет. Нашёл зюзя на Шуралке золотую породу да в радости к Демидычу и пошёл. Теперь нету того зюзи, а близ Шуралки-реки болотце Зюзино имеется.
– Ладно, Ганя, скажу тебе всё. Только уж и ты меня, смотри, не выдай. Да покумекаем давай, как теперь быть-то.
Глава 9. Загадки и разгадки
Анна не завтракала в гостиничном ресторане – заказывала через портье лично у лучшего шеф-повара города, и еду ей приносили в номер.
Поедая салатик, она поглядывала на Анатолия и, вытирая губы белейшей салфеткой, приносимой вместе с пищей, спросила:
– О чём задумался?
– О Великом Полозе.
– И что придумал?
– То, что, наверное, ты права. Полоз описывается Бажовым не только как великий змей, но и как пожилой человек «в окладистой бороде», довольно грузный. Понятное дело, весь в жёлтом, и кафтан, естественно, «церковной парчи». А при нём самый настоящий живой, земной человек – посредник между Полозом и людьми. И зовут того человека Семёнычем. Без имени. Так не отзвук ли это памяти о братьях Семёновых, особенно о старшем, Гавриле Семёнове сыне Митрофанове по прозванию Украинцев? Полоз и Семёныч – это, видимо, собирательный образ, соответственно, Никиты и Акинфия Демидовых с одной стороны и братьев Семёновых – с другой.
Анна похлопала в ладошки, похвалила:
– Молодец. А откуда ты так хорошо, до деталей, бажовские сказы знаешь? Память, как у компьютера – или профессия? Ты не филолог? По крайней мере, филолога в тебе больше, чем историка.
– Я кандидат филологических наук, и моя диссертация была по Бажову. Кстати, по Тагилу и его окрестностям Бажов никаких сказов не собирал. Он их записывал – или материал для них – около Екатеринбурга, в основном в Сысерти, Полевском, Гумёшках, а также в Камышлове.
– И как же, – спросила Анна, цепко посмотрев на него, – на тебя вышел Украинцев? Старые университетские связи? Дружба факультетов? Или ты тоже на искусствоведении учился?
– Как вышел, не знаю, а я учился на филологическом.
Анна провела языком за щекой, сметая с десны остатки рукколы с пармской ветчиной.