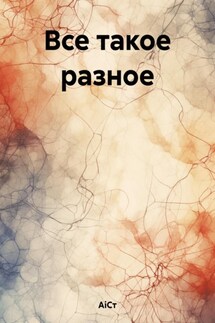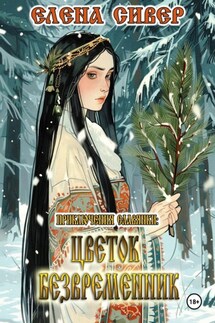ЯТЬ. Психотерапия русской традицией, или как жить лучше в опоре на наш культурный код - страница 2
Ещё в детстве, читая нашу золотую классику, я всё время думала, почему у деревенских – образ людей третьего сорта и обслуги? Это потом я поняла: наша классика написана из позиции «сверху» по отношению к деревне. Что логично, писали же её в основном представители города. Эту «обесценивающую» позицию впитали и мы, ныне живущие, благодаря погружению в шедевры русской литературы. Представление о «недалёкой деревне» теперь и топором не вырубишь. Поэтому мы имеем то, что имеем: йогу, даосские практики, тибетские чаши и африканские барабаны…
Когда я открыла для себя мир деревенской традиции, была шокирована её многообразием, глубиной и сложностью. Моя мама, кандидат биологических наук, и я со своими четырьмя дипломами с огромным трудом в первый раз заправили стан для ткачества! До сих пор как вспомню, так вздрогну. А орнаменты? Ума не приложу, как они, эти «недалёкие деревенские женщины», без принтеров ткали все эти узоры. Мы явно не теми глазами смотрим на фольклор. Поэтому я и написала эту книгу: это моя попытка вернуть ценность нашего наследия и выстроить дорожки от ушедшего к настоящему.
По данным переписи 1913 года, 85% населения в России жили в деревнях и сёлах и только 15% – в городах. Это означает, что как минимум 85% читающих эту книгу своими корнями уходят именно в деревню и деревенский культурный код. Но в школе все учили Пушкина, и это могло сформировать неверную картину сословной принадлежности (на всякий случай: деление на сословия моё, авторское).
Смею предположить, что в голове каждого из нас идёт некое противостояние кодовых систем: культурный код города VS культурный код деревни. Для вас, к примеру, блин – это символ солнца или поминальное блюдо? Цвет смерти – чёрный или белый? «Чёрное солнце» – это новый культурный код, а «белое поминание» – архаичный. У современника эти коды причудливым образом уживаются в определённой пропорции. И даже если я – городской житель в третьем поколении, то семейные сценарии и поведенческие установки «деревенского сословия» всё равно живут во мне в фоновом режиме и иногда вступают в конфликт с более «свежими». С этой колокольни «сословных несостыковок» эта книга может выступить недостающим звеном для лучшего понимания себя.
Не такая уж и архаичная
Ещё важно договориться об исследуемом периоде. В книге речь будет идти о русской традиции XX, XIX веков, максимум XVIII. Именно об этом периоде у нас есть достоверные данные этнографических экспедиций, в которых были записаны песни и обряды, собраны наряды и артефакты, хранящиеся в музеях. Опять тут стоит отметить, что город не очень-то интересовался жизнью деревни, не видел в этом ценности. Экспедиции – это что-то на гурманском для интеллектуальных эстетов. Таких энтузиастов оказалось немного, и им большой поклон.
Как деревня жила раньше, мы знаем только ориентировочно. Например, сколько хранится ткань? Не в музейных условиях, а в деревне в естественном бытовании? Двести лет? Тем более с учётом истории нашей страны с войнами, переселениями и другими перипетиями? Да и кто ж в здравом уме хранит рабочее? Вот и получается, что в музеях мы можем найти только праздничную одежду.
А песни? Первая звукозаписывающая аппаратура – фонограф – появилась в 1877 году, и то бо́льшая часть раннего архива была утеряна и разрушена из-за хрупкости катушек. Фактически мы имеем тексты старинных песен XVIII–XIX веков, а звучание – только XX века, когда первая волна фольклорного движения вдруг обнаружила архаичный пласт культуры в деревне и ринулась записывать бабушек. Получается, что старинные песни не настолько уж и стары.