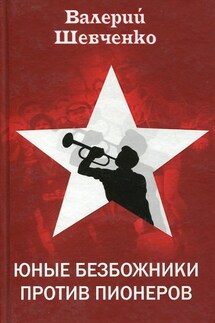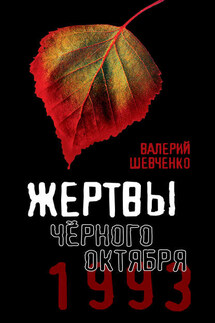Юные безбожники против пионеров - страница 15
Родители школьников в большинстве отрицательно относились к перспективе введения антирелигиозного воспитания в школе. Преподаватель А. Комаров из Северодвинской губернии в 1928 г. провел обследование настроений крестьян к этому вопросу в своем селе. Результаты получились следующие: за нейтрализм школы в религиозном вопросе высказались 73 человека (60,3 %), из них от 14 до 18 % показали себя людьми, стойкими в вере, которые приветствовали бы возвращение в школу Закона Божия («Надо про Бога учить»); за антирелигиозное воспитание высказались 27 человек (22,3 %)[82].
Дети, особенно маленькие, находились под влиянием родителей, и поэтому в религиозные праздники (Рождество, Пасха) классы часто оставались пустыми. И это наблюдалось не только в деревне. В Ленинграде в одной из школ в дни Рождественских праздников класс тоже пустовал[83]. На это жаловался школьник Фрумкин на конференции учащихся Центрального городского района Ленинграда 3 марта 1928 г.: «У наших ребят еще имеются темные оттеночки старинного времени – если религиозный праздник, то нужно отдыхать, а не учиться»[84].
Данные анкет о религиозности школьников в 1927–1928 гг. противоречивы. Это связано как с особенностями местностей, где проводились обследования, так и с относительной искренностью ответов школьников. В октябре-ноябре 1927 г. ячейка СБ просвещенцев Сокольнического района Москвы провела анонимное анкетирование в седьмых группах восьми школ. Самый высокий процент верующих учащихся показала школа № 31 – 46,1 %, самый низкий процент школа № 52 – 26,8 %. Среднее число верующих составило 41,8 %. Причем процент верующих девочек, как правило, был значительно выше процента верующих мальчиков (в школе № 7 оказалось 7 верующих мальчиков (16,6 %) и 37 верующих девочек (60,6 %))[85].
Осенью 1927 г. Институт методов школьной работы Наркомпроса подвел итоги своего обследования 1,5 млн. детей, некоторые из них отвечали и на вопрос о вере в Бога[86]. Положительно ответили 25 % детей, отрицательно 51 %. Соотношение верующих мальчиков и девочек оказалось 39,7 % к 59 % соответственно[87].
В 1928 г. группа партийных работников педфакультета второго МГУ по поручению Главного управления социального воспитания Наркомпроса (Главсоцвос) провела анкетирование школьников Марьиной Рощи (Москва) с целью выявления политических, религиозных и национальных представлений[88]. Из 394 школьников верующими себя назвали 119 (около 30 %), неверующими – 261 (около 66 %), не ответили и ответили «не знаю» – 14 (около 4 %)[89]. В четвертых группах картина несколько менялась: из 350 школьников верующими назвали себя 41 (12 %), неверующими – 282 (80 %), 27 человек (около 8 %) ответили «не знаю» или уклонились от ответа[90].
Условность данных подобных обследований становится очевидной при сравнении с данными по другим районам РСФСР. Например, обследование школ Сергиева Посада в 1928 г. выявило 51 % верующих (т. е. на 5-м году обучения – 55 %, на 6-м – 54 %, 7-м – 39 %, 8-м – 44 %, 9-м – 58 %)[91]. Вместе с тем анкетирование одной школы Златоустовского округа на Урале выявило, что в 7-й группе из 40 школьников оказался только один верующий мальчик[92].
Очевидно, что эти цифры отображали действительность конца 20-х годов несколько искаженно. Дети подвержены разным влияниям, им сложно еще самим осмыслить свою веру или неверие. Они часто отвечают на вопрос так, как надо взрослым в зависимости от обстоятельств. От этого иногда их ответы неточны.