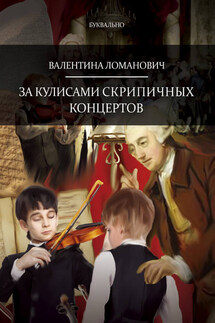За кулисами скрипичных концертов - страница 13
Дети, как могут, стараются разобраться с особенностями хронотопа барочного концерта. Трудно удержаться, чтобы не привести несколько примеров их бесстрашных попыток. Некоторым из них удалось установить диалог с далекой эпохой и убедиться в том, что природа человеческая, в сущности, не меняется, что в то далекое время тоже были друзья и враги, была верность и предательство, было весело и одиноко, хотелось отстоять свое мнение или упрямо закрыть за собой дверь, было страшно и обидно, хотелось встать на защиту слабого или дать в глаз какому-нибудь задаваке, хотелось бы, чтобы мама успокоила и обняла… Ученики часто подбирают ответы прямо с пола, приводя учителя в изумление простотой и истинностью.
О форме. Один ученик, начитавшись мифов Древней Греции, поместил своего героя в пятый век до новой эры в древнюю Элладу. По его мнению, Боги, решив испытать характер и достоинства Героя, насылают на него пять испытаний. После каждого испытания они реагируют по-разному и дают разные оценки испытуемому, раздумывая, помогать тому или уничтожить без жалости. Второй ученик сделал главного Героя этой музыки скрипачом и послал его держать конкурс в оркестр собора Святого Марка в Венеции, где, кстати, служил без отрыва от своей непосредственной деятельности парикмахера отец Антонио Вивальди. Ученик долго не мог определиться, раздать ли пять разных соло разным скрипачам или заставить играть пять конкурсных туров одного скрипача, в котором он, конечно, видел себя. Думается, что оба ученика смогли преодолеть малое время и вырваться на просторы большого.
О пространстве. Нужно ли играть шестнадцатые ноты всегда одинаково? Ученик решительно ответил – нет. По его мнению, шестнадцатые ноты – это мерцающее пространство, и мерцает оно с разной степенью интенсивности. Еще один Икар от роду семи лет полетел на высокие орбиты!
Такой ревизии должны подвергнуться все элементы музыкальной ткани, с которыми ученику придется встретиться в процессе разучивания произведения. Он много знает из уроков сольфеджио и музыкальной литературы, но информационные потоки, циркулирующие в школе, часто не пересекаются в нужное время и в нужном месте. А ученикам, в силу их возраста, бывает трудно связать воедино разрозненные блоки знаний, полученных в разных классах. Ясно, что при такой организации учебного процесса основную нагрузку педагогу-инструменталисту надо брать на себя. И здесь без НАСТАВНИКОВ не обойтись.
Учеников надо научить очень многому, для того чтобы они могли читать изучаемые произведения, как книги. Научить выявлять смысл исполняемых произведений, научить музыкальной речи. И тогда абстрактное пространство любимого концерта будет заселено не восьмыми нотами, точками и акцентами, а будет пульсирующим и живым, с улыбками, ссорами, драками и примирениями, доверительными разговорами, гримасами, угрозами, лаской, непослушанием. Будут встречи с людьми, собаками, птицами, корпускулами и монадами, мудрецами и злодеями, и всем, что с ними случается в этой прекрасной и ужасной жизни. И, конечно же, тогда и слушатели не останутся равнодушными и разочарованными, а будут благодарны большим или маленьким музыкантам, соединившим их своей игрой в бесценном ОБЩЕНИИ с великими мастерами других времен.
Казалось бы, какие еще наставники: педагогического опыта у учителей моего поколения по 30–40 лет, нет ни одной ноты, написанной для скрипки, которой бы мы не знали. Но если в тиши ночи задать себе несколько искренних вопросов: а так ли это? Ведь часто работа идет по проложенной колее, и сойти с нее уже ни сил, ни желания нет. Сколько интереснейших открытий было совершено в музыковедении, поменялись образовательные парадигмы, написана новая музыка, выросли новые дети, пришедшие учиться музыке, а на пюпитрах тот же Кайзер и Вольфарт. Несколько лет назад была опубликована книга лекций Б. Яворского, записанных его учениками. Эта книга наделала большой переполох в педагогическом сообществе пианистов, да и не только у них. По старой традиции, многие из них считали, что для постижения авторского замысла И. С. Баха достаточно знать биографию композитора и строение фуги. То, что было написано в лекциях Яворского (много лет тому назад) целиком перевернуло представление о клавирной и вообще инструментальной музыке Баха. Там были такие строчки: «Всякая музыка перестает быть “чистой”, когда постигаешь принципы, организовавшие данное музыкальное произведение». Оказалось, и это было очень убедительно представлено в тексте, что у музыки Баха есть содержание, которое может очень хорошо быть представлено человеческими словами, такими, как Рождество Христово, Моление о Чаше, Благовещение… Когда мы учили прелюдии и фуги Баха, таких слов не слышали. Теперь выясняется, что: «Хорошо темперированный клавир» есть художественное толкование образов и сюжетов Священного Писания«. А чего стоят переходящие, как красное знамя в прошлые времена, от поколения к поколению педагогов, слова о том, что начало Концерта Сибелиуса нужно играть холодно, потому что автор жил в холодной стране. Я специально поехала в Финляндию проверить тамошний климат и попала в очень жаркое лето. То есть выяснилось, что климат не может быть достоверным доказательством горячности или холодности музыки. Такие формулировки, как и презентация прелюдий и фуг из» Хорошо темперированного клавира” должны быть полностью пересмотрены, к чему многие преподаватели не готовы. Что же уж говорить о скрипачах, у которых не было своего Яворского.