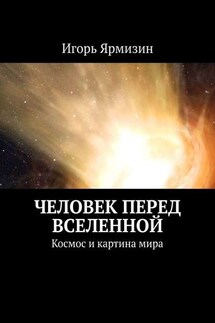Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное - страница 46
И все же брату Ришару было далеко до настоящей звезды XIII века, – немецкого проповедника Бертольда Регенсбургского. Его проповеди привлекали по 20, 40, 60 и даже почти невероятные 100 и 200 тысяч человек17. Разумеется, помещений, способных вместить такое количество народа, тогда попросту не существовало. Поэтому в чистом поле или посреди прекрасного заливного луга сооружали деревянную башню, – что-то вроде кафедры. Над ней водружали знамя, благодаря которому, к тому же, можно было определить направление ветра и выбрать место, с которого лучше будет слышно оратора. Конечно, его проповеди был присущ высокий пафос (ср. «подобно саламандре, которая имеет много цветов, вы должны обладать многими достоинствами и добираться до небесного царства, противопоставляя свое противоядие ядам дьявола»). Но и решением бытовых, практических вопросов Бертольд «не брезговал». Например, как-то раз во время выступления одна публичная женщина раскаялась и захотела встать «на путь истины». Он тут же перевел вопрос в деловую плоскость и поинтересовался, кто в таком случае возьмет ее замуж? Один желающий нашелся. Правда, при этом запросил 10 фунтов приданого. Проповедник пустил шапку по кругу, и она очень быстро наполнилась деньгами. Причем сбор пожертвований был остановлен Бертольдом ровно в тот момент, когда они достигли искомой суммы в 10 фунтов. Без чуда сие было бы невозможно, – заключает очевидец. «Молодые» сразу же поспешили в церковь.
Многие очевидцы видели вокруг головы проповедника сияющий нимб. Так или нет, но количество раскаявшихся под влиянием его проповедей – огромно. По словам Роджера Бэкона, он один принес больше пользы, чем все проповедники обоих орденов (францисканцы и доминиканцы) вместе взятые.
К сожалению, сегодня мы не в состоянии воспроизвести атмосферу средневековой проповеди. Тексты, дошедшие до нас, никогда не заменят ее живого звучания. Ведь даже на современников письменное изложение не производило особого впечатления. Слышавшие проповедника, а потом читавшие то же самое утверждали, что они улавливали едва ли тень Его слов. Собрания проповедей, дошедшие до нас, это, скорее, конспекты, лишенные ораторского блеска, сухие и рассудочные.
Но как мы можем узреть эти накатывающие огромными волнами на многотысячную толпу устрашающие картины адских мучений? Эти внезапно разверзнувшиеся бездны неотвратимых наказаний за грехи: страх, ужас, смятение, охватывавшие людей. Падшие души дрожащих, как осиновый лист слушателей, уже готово было поглотить адское пламя, как волею проповедника им бросался спасательный круг, – это лиризм Страстей Христовых в божественной любви ко всем нам, грешникам.
О громадном потрясении людей мы можем только догадываться, читая, как разные города завлекали на «гастроли» проповедников, точно поп-звезд, как чиновники и горожане окружали их чуть ли не монаршими почестями; и как проповедники вынуждены были порою прерывать свои страстные речи из-за тяжких рыданий толпившихся вокруг них слушателей.
Но не только выдающиеся проповедники заставляли людей рыдать. На мирном конгрессе 1435 года в Аррасе все присутствующие, внимавшие проникновенным речам послов, в волнении попадали на землю, словно онемев, тяжело вздыхая и плача. Люди не стеснялись эмоций, ибо «благочестие есть некая умягченность сердца, когда легко разражаются кроткими слезами». А слезы – это крыла молитвы, или, по словам св. Бернарда, вино ангелов. Ведь через них сам Господь посылает знак, что услышал твое раскаяние. И это, пожалуй, самое важное. Говоря современным языком, слезы – признак эффективности обратной связи между человеком и Богом! Людовик Святой молит о них Всевышнего, как о «слезном даре», но часто сердце его остается сухо и черство