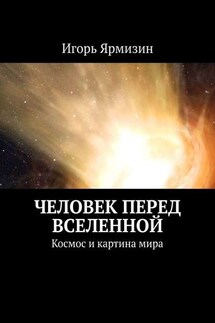Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное - страница 48
Конечно, и в средние века, бывало, человек покидал лоно своей веры, переходил из христианства в ислам (и наоборот), намного реже в иудаизм, бывало, даже продавал душу дьяволу, но все это было лишь падением грешников. Неверные, язычники все равно оставались в религиозных рамках. Они верили в истуканов, в огонь, в звезды, в дьявола, т.е. в какого-то злого, неправильного, с ног на голову перевернутого, но «бога».
Атеизм же для средневекового человека, то есть мир без Бога и вне Бога, был таким же фантасмагорическим бредом, каким нам, в свою очередь, представляется мир средневекового человека с лешими, русалками и пр. Да, интеллектуалы того времени иногда цитировали псалом, где приводится дискуссия иудейского царя и его ненормального оппонента: «И воскликнул безумец в сердце своем: «Нет Бога!», но только лишь для того, чтобы обратить внимание на содержащееся в ней противоречие (откуда, мол, понятие Бога могло взяться в сердце, если Он не существует?). Противоречие служило подтверждением того, что изрекающий сие – настоящий безумец! В этом с интеллектуалами полностью соглашалась и менее образованная публика. Т.е. безбожие приравнивалось к безумию. Причем последнее было не ругательством, а клиническим диагнозом. Отсюда можно сделать вывод, что мнение о нас наших отдаленных предков, если бы при помощи какой-нибудь машины времени мы встретились, вряд ли оказалось столь лестным, как представляется авторам некоторых фантастических книг, завороженных техническим прогрессом и считающих его единственным мерилом развития цивилизации. Нет, скорее всего, люди того времени решили, что встретились с настоящими унтерменьшн, недочеловеками, происками Сатаны. А все достижения современной науки и техники были бы восприняты как дьявольское наваждение, с которым, безусловно, надо бороться.
Но это отступление, и всего лишь предположение. Основывается оно на том, что религия в то время не «играла роль». Религия была самим средневековьем. Его жизнью и его историей, его душой и движущей силой. Она была везде: в монастырях, соборах, дворцах, хижинах, в книгах, мебели, календаре, праздниках и буднях, в привычках и одежде. Вся культура, искусство, литература были пронизаны религиозной идеей высшего божества, а сей мир мыслился лишь как слабый отблеск Его. Мир и все твари в нем – лишь символы. Уловить этот отблеск, связать его с божественной сущностью, понять его природу, а еще лучше, его высшую природу, восходящую к Единому, к Божественному Лику, – в этом главная задача человека. Ее, каждый по-своему, решали скульпторы, архитекторы, философы, теологи и даже короли (ведь строительство государства тоже надо осуществлять, максимально приближая страну к идеалу Небесного града).
Следующий случай прекрасно иллюстрирует разницу между средневековым мировоззрением и современным, нынешней наукой и тогдашней «доктриной». Как-то раз во дворике Парижского университета между учеником и учителем – «ангелическим доктором» Фомой Аквинским и «универсальным доктором» Альбертом Великим – вышел спор о том, есть ли у крота глаза. Несколько часов длится этот словесный турнир – и все безрезультатно. Каждый стоял на своем истово и непоколебимо. Крики гениев (а эти двое были величайшими умами средневековья) случайно услышал проходивший мимо садовник. Он тут же предложил изловить животное, рассмотреть его, да и покончить с дискуссией (то есть, по-современному, провести эксперимент). «Ни в коем случае, – воскликнули в один голос спорщики. – Ни в коем случае. Никогда! Мы ведь спорим в принципе: есть ли в принципе у принципиального крота принципиальные глаза»…