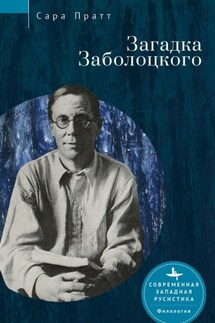Загадка Заболоцкого - страница 30
ВОЗВРАЩЕНИЕ К СИМВОЛИЗМУ
В небесной СевильеРастворяется рамаИ выходит белая лилия,Звездная Дама…Заболоцкий. Небесная Севилья
Не свисти, сизый Ибис, с папирусаВ переулки извилин моих,От меня уже не зависятЗолотые мои стихи.Заболоцкий. Сизифово рождество
Стремление к «иному отношению к поэзии», «тяготение к глубоким вдумчивым строфам» и «сильному смысловому образу», неприятие напоминающего о Клеопатре солипсизма и стремление разрешить висящие над душой «гнетущие вопросы» явно выводили Заболоцкого за рамки шутовской дерзости его первых произведений. Теперь в поисках подходящих выразительных средств он чаще всего обращался к символизму и его производным, иногда в сочетании с элементами акмеизма. Эта комбинация еще сыграет свою роль в будущем, когда онтологические принципы искусства ОБЭРИУ постфактум послужат мостом между символизмом и акмеизмом.
Касьянов сообщает, что они с 16-летним Заболоцким попали под чары символистов, в первую очередь Блока и Белого, еще в 1919 году в Уржуме. К тому времени, как он отмечает, они уже «преодолели» Бальмонта и Северянина, но тем не менее любили «чеканную краткость и эмоциональную насыщенность» Ахматовой [Касьянов 1977: 33]. В Петрограде, судя по всему, на акмеистическую чашу весов была добавлена еще и немалая толика Мандельштама. В письме Касьянову от 11 ноября 1921 года Заболоцкий после цитирования «Возьми на радость из моих ладоней» Мандельштама приводит два отрывка из собственного произведения, над которым работал, предваряя их словами: «После сладкого вина, отведай горького. Вот мои». «Его» стихи в данном случае ближе к Блоку, чем к Мандельштаму, хотя стоит отметить, что и Мандельштам в своем становлении не миновал символизма [Taranovsky 1976: 83]63. В обеих этих ранних работах Заболоцкий указывает на существование «иного мира», столь важного для символистов, и, так же как они, видит ключ к иному миру в слове, а в природе, наполненной духовным смыслом, – посредника.
Первый отрывок, «Промерзшие кочки, бруснига», можно рассматривать как часть диалога с авторским «я» Блока из его цикла о сверхъестественной жизни болот «Пузыри Земли». В этом отрывке переживание осеннего вечера открывает поэту «новую книгу», новый источник смысла, и природа воспринимается с точки зрения религиозной образности: сосны стоят «как желтые свечи на Божьем лесном алтаре»64.
[Заболоцкий 1972, 2: 229]65
В продолжающейся саге об отношениях Заболоцкого с болотами это воспринимается как ответ – возможно, непреднамеренный – на поэму Блока «Полюби эту вечность болот» 1905 года, которая вместе со стихотворениями «Болотный попик», «Болотные чертенятки» и другими образует цикл «Пузыри земли». Блок начинает призывом: «Полюби эту вечность болот» и затем движется к кочкам и пням, к вопросам вечной истины, которые, казалось, предвосхищают трактовку Заболоцким «промерзших кочек», «смолистых запахов пней» и откровений «новой книги» природы: