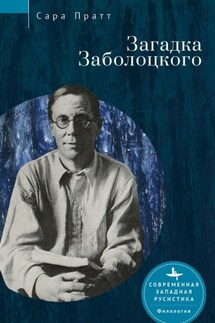Загадка Заболоцкого - страница 6
После угасания НЭПа, а тем более после лагерного срока изменился и повзрослел не только сам поэт, но изменился и мир, наблюдаемый его голыми глазами. Его поэзия должна была соответственно измениться, так же как поэзия Пастернака и прочих15. Лишь некоторые (но не все) изменения были напрямую обусловлены политикой. Помимо стихотворений на темы природы, смерти и многие другие темы, Заболоцкий писал также произведения в духе «социалистического реализма», как и многие его соотечественники. Похоже, некоторые из них с радостью, даже с апломбом, приняли роль угодного властям советского поэта. Среди них были Василий Лебедев-Кумач и Степан Щипачёв, а также не столь известный Николай Браун, – в свое время сокурсник Заболоцкого и соиздатель студенческого литературного журнала. Другие, как Мандельштам и Ахматова, сочиняли хвалебные гимны советской жизни и вождям от крайней безысходности16 [Mandelshtam N. 1970: 195, 198, 203; Freidin 1987: 250–267].
Заболоцкий находится где-то между этими двумя категориями. Как и многие советские писатели, он практиковал то, что Александр Жолковский называет «искусством приспособления». Жолковский отмечает, что такие авторы, как Зощенко и Пастернак, создавали «гибриды», в которых линия партии комбинировалась с другими идеологическими и эстетическими мотивами, создавая тем самым замечательное впечатление диалога в противовес монологической среде официальной литературы. «Искусство приспособления», утверждает Жолковский, создает «вторую реальность», которая облегчает читателям распознание и понимание основных атрибутов советской действительности [Жолковский 1992: 56, 63–64]17.
Концепцию Жолковского развил Томас Зейфрид в книге о писателе Андрее Платонове, с которым часто сравнивают Заболоцкого. Используя термины, которые в равной степени можно примечаниеть и к Заболоцкому, Зейфрид пишет, что для Платонова «искусство приспособления»
…не является ни внутренним преодолением своего прежнего творческого «я», ни отчуждающей капитуляцией… Поздние работы созданы как результат медиации между мировоззрением Платонова и его ранней поэтикой, с одной стороны, и эстетикой соцреализма, которой он теперь должен был соответствовать, – с другой. С этой точки зрения, Платонов настойчиво, исподволь сохраняет признаки старины (отсюда его настороженность по отношению к бюрократии и ее принципам), но в то же время старается трансформироваться в функционера нового типа, хоть и не законченного циника [Seifrid 1992: 177]