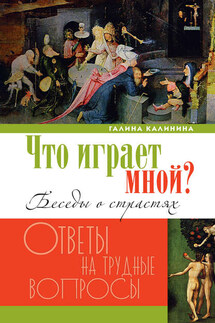Загробная жизнь и бессмертие души. Свидетельства и факты - страница 49
В одном из его романов умирает после долгой и мучительной болезни человек, и за несколько минут до смерти он приходит в себя, он очнулся от длительного бреда, и к нему со всей силой возвращается в последний раз вопрос, есть ли что-либо там после, или же нет. В комнате, где лежит умирающий, закрыты ставни и за окном слышится журчание воды. И вот умирающий говорит себе: «Конечно, ничего нет, это так же ясно и очевидно, как то, что за окном идет дождь». «А между тем, – замечает Набоков, – за окном сияло радостное весеннее солнце, и квартирантка верхнего этажа поливала цветы на подоконнике, и вода, журча, лилась на нижнее окно».
У Набокова это ироническое опровержение всех так называемых «доказательств» – да, падает дождь, ясно и очевидно, а на деле нет никакого дождя – есть солнце.
Поэтому, очевидно, не к науке нужно обращаться с вопросами о загробной жизни и о том, что происходит после смерти. Науке, в сущности, тут делать нечего, ибо в том-то все и дело, что наука занимается исключительно посюсторонним миром, и все ее методы, инструменты, гипотезы и выводы только к нему, к его изучению и приспособлены.
Но если не к науке, то к кому же, к чему же? К философии? Да, начиная с самой зари человеческой мысли пыталась философия дать окончательный ответ на этот мучительный вопрос.
Вот знаменитый диалог Платона «Федон», целиком посвященный доказательству бессмертия души. Это, по всей вероятности, одна из самых глубоких книг, написанных на эту мучительную тему. И не случайно, конечно, герой другого литературного произведения в одном романе Алданова судорожно ищет именно эту книгу перед тем, как покончить жизнь самоубийством: «Вот сейчас узнаю, говорит он, есть ли там что-либо или нет». Правда, книги он не находит.
Но все же и доказательства Платона действуют, кажется, только на тех, кто и без него уже верит в бессмертие души. Что-то не слышно на протяжении всей истории человечества, что кто-либо, прочтя платоновский «Федон», сказал бы – да, я раньше не верил в бессмертие души, но вот Платон доказал его, и теперь я верю.
И то же можно сказать про почти все философские попытки это сделать, причем дополнительная трудность или же недостаток доказательств вроде платоновских в том, что в целях утверждения другого мира они, в сущности, подтачивают реальность, ценность этого, посюстороннего мира.
«Вся жизнь мудреца, – говорит Платон, – есть одно вечное умирание». В этом мире только страдание, только бессмыслица, только перемена, значит, – таков аргумент Платона – должен быть другой мир, где все счастье, все вечность, все блаженство, все неизменность. И так почти всегда – плохо здесь, поэтому ждите того, что там.
Но ведь именно против этого развенчания нашего, единственного ведомого нам мира, против его отрицания, обесценивания и обессмысливания и произошел в мире великий бунт, именно благодаря этому произошел великий отход человека от религии. Ибо не может же быть так, что Бог сотворил мир и жизнь, и всю их красоту, и все их возможности только ради того, чтобы человек отрицал их и отказывался от них во имя неизвестного, всего лишь обещанного ему другого мира? Поскольку же именно к этому призывает религия, все религии, то – долой религию, обойдемся без нее, станем как можно лучше жить здесь, на земле.
И получается так, что формально человечество разделилось как бы на два лагеря, вечно враждующих друг с другом – из-за чего? Из-за смерти. Из-за ее осмысления. Одни во имя потустороннего, загробного мира действительно обесценивают этот мир, эту жизнь, уступают ее бессмыслице и злу, ибо только там, говорят они, нет бессмыслицы и нет зла. Другие во имя этого мира, во имя <здесь> отрицают какую бы то ни было возможность вечности, но таким образом делают человека явлением случайным, мимолетным, временным.