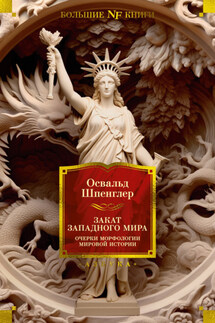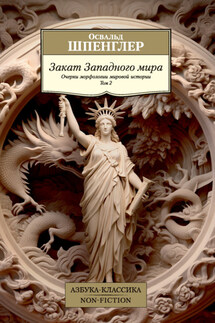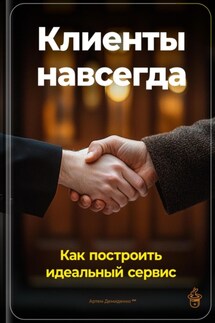Закат Европы. Образ и действительность. Том 1 - страница 30
Таким образом, падают претензии высшего мышления на отыскание всеобщих и вечных истин. Истины существуют только по отношению к определенному человечеству. Согласно этому и сама эта философия представляет собой выражение западной души, в отличие от античной или индийской, притом только в ее цивилизованной стадии. Таким образом, определяется ее содержание как мировоззрения, ее практическое значение и область ее применения.
16
Наконец я позволю себе привести несколько личных замечаний. В 1911 г. я собирался написать очерк о некоторых политических явлениях современности с возможными выводами относительно будущего, все это на фоне широких горизонтов. В то время мировая война, в качестве ставшей неизбежной внешней формы исторического кризиса, непосредственно надвинулась на нас, и дело шло о том, чтобы понять ее из духа предшествовавших – не годов – столетий. При разработке этого первоначально более узкого вопроса у меня сложилось убеждение, что для настоящего понимания эпохи необходимо обратиться к более обширному кругу оснований, что при исследовании подобного рода совершенно невозможно ограничиться какой-нибудь отдельной эпохой и кругом ее политических фактов, невозможно заключить исследование в рамки прагматических соображений и совершенно отказаться от чисто метафизических, в высшей степени трансцендентных соображений, если только поставить себе целью глубокую обоснованность и внутреннюю необходимость результатов. Мне стало ясным, что политическую проблему нельзя понять, основываясь на самой политике, и что существенные черты, таящиеся в глубине событий, могут уясниться и сделаться доступными только в области искусства или даже в форме очень отдаленных научных и чисто философских мыслей. Даже политико-социальный анализ последних десятилетий XIX века, исследование состояния напряженного равновесия между двумя мощными, издалека видными событиями, а именно того, которое в лице революции и Наполеона на целое столетие определило собой картину западноевропейской действительности, и другого, по меньшей мере столь же значительного, которое приближалось со все возрастающей быстротой, даже такое исследование оказалось невыполнимым без привлечения всех великих проблем бытия в их полном объеме. Действительно, в исторической, как и в естественно-исторической, картине мира нет ни одной мельчайшей подробности, в которой не была бы воплощена вся совокупность глубоких тенденций. Таким образом, первоначальная тема возросла до огромных размеров. Бесконечное число неожиданных, большей частью совершенно новых вопросов и связей называлось само собой. Наконец мне стало совершенно ясным, что ни один отдельный отрывок нельзя осветить с должной полнотой, пока не будет обнаружена тайна мировой истории вообще, точнее говоря, тайна истории высшего человечества как органического единства, обладающего определенной структурой. Но как раз в этой области до сего времени ничего не было сделано.