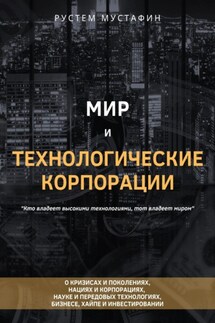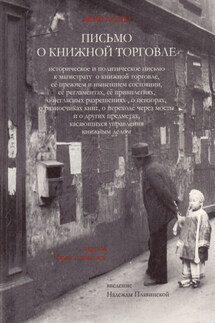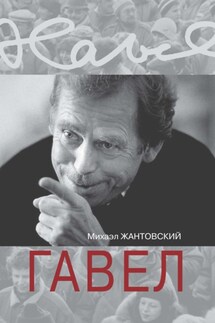Зами: как по-новому писать мое имя. Биомифография - страница 15
Мне не разрешалось снимать очки, разве только перед сном, но меня постоянно раздирало любопытство по поводу этих волшебных стеклянных кружочков, которые быстро становились частью меня, изменяли мою вселенную и при этом оставались отделимыми. Я вечно пыталась изучить их своими невооруженными, близорукими глазами и то и дело роняла в процессе.
Так как я ничего не различала на доске и не могла списывать с нее работу, сестра Мэри НП посадила меня в дальнем конце класса около окна и нацепила на мою голову колпак дурака. Остальных учеников она подрядила произнести молитву о моей матери, чья непослушная дочь сломала очки и обрекла своих родителей на обременительные расходы из-за новой пары. Также она призвала их к особой молитве, которая помогла бы мне перестать быть таким жестокосердным ребенком.
Я же развлекалась: считала цветные радуги, что нимбом плясали на столе сестры Мэри НП, и наблюдала за звездными всполохами, в которые превращалась лампа накаливания, когда я смотрела на нее без очков. Я скучала по ним, а не по способности видеть. Ни разу не задумывалась о тех днях, когда верила, что лампы – это звездные всполохи, потому что таким для меня выглядел любой свет.
Должно быть, дело шло к лету. Помню, как сидела в колпаке дурака, солнце через окно заливало кабинет, спине было жарко, класс тянул и тянул прилежно молитвы за спасение моей души, а я играла в тайные игры с искаженными цветными радугами, пока Сестра не заметила и не запретила мне мигать так часто.
Как я стала поэтессой
«Куда бы птица без лап ни летела, она находила деревья без ветвей».
Когда самые мощные слова, на которые я только способна, вылетают из меня и звучат, будто воспоминания о тех, что исходили из материнского рта, мне остается либо переоценивать значение всего, что я говорю теперь, либо заново измерить ценность тех ее старых слов.
У моей матери были особые, тайные отношения со словами, которые принимались за должное, за язык, потому что всегда были с ней. Я не разговаривала до четырех лет. В мои три года чарующий мир странных огоньков и манящих форм, в котором я прежде обитала, рассеялся под натиском обыденности и сквозь очки мне открылась иная природа вещей. С ними всё стало менее красочным и сбивающим с толку, но при этом гораздо более комфортным, чем то, что было естественно для моих близоруких, по-разному сфокусированных глаз.
Я помню, как плелась за мамой по Ленокс-авеню, чтобы забрать Филлис и Хелен на обед из школы. Была поздняя весна, потому что ноги мои ощущались настоящими, легкими, не отягощенными громоздкими непромокаемыми штанами. Я отстала у забора на детской площадке, где рос одинокий хилый платан. Увлеченная, я уставилась вверх: каждый отдельный зеленый лист в своей особенной форме представал внезапным откровением в кружеве ясного света. До очков я знала деревья лишь как высокие коричневые столбы, которые заканчивались пухлыми завитками тускловатой зелени, как деревья в сестринских книжках с картинками, откуда я черпала знания о визуальном мире.
Но изо рта матери каскадом извергался поток комментариев, когда она чувствовала себя легко или на своем месте, в окружении авантюрных нагромождений и сюрреалистических сюжетов.
Мы никогда не одевались слишком легко, а лишь только в ближайшее к ничего. Ближе к шее нет чего? Непреодолимые и невозможные дистанции измерялись расстоянием «от Борова