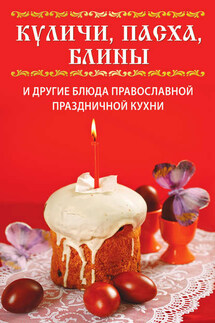Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года - страница 22
Именно гармоничное сочетание земного и небесного обеспечило персидской поэзии «вечную жизнь» при сменах правителей, режимов, умонастроений на протяжении всей бурной истории этой страны.
Неудивительно, что режиссеры старшего поколения любили обращаться к эпосу, и, в зависимости от времени и обстоятельств, вектор их интереса перемещался то в сторону древнейших сказаний и легенд (А. Сепента «Фирдоуси» (1934), «Фархад и Ширин» (1934), «Лейла и Меджнун» (1937), С. Ясеми «Юсуф и Зулейха» (1956)и др.), то в сторону религиозных сюжетов, трактуемых, как правило, с точки зрения шиитской идеологии (Д. Мир-Багери «Имам Али» (1997–1998), Ш. Бахрами «Царство Соломона» (2010) и др.).
В 2015 году при поддержке иранского правительства иранский кинематограф, наконец, финансово осилил масштабнейшую киноэпопею «Мухаммед, посланник Бога». Государство, выступившее главным продюсером этой картины, доверило постановку одному из самых ярких режиссеров «иранской новой волны» – Маджиду Маджиди. Предполагалось, что картина выйдет на мировой кинорынок, и в том числе поэтому были приглашены известнейшие западные кинематографисты: оператор – легендарный Витторио Сторадо, постановщик спецэффектов – «оскароносный» Скотт Андерсон. Картина снята с использованием новейших технологий, при этом никуда не исчезла знакомая и полюбившаяся ценителям иранского кино гамма красок и узоров иранского ковра, пейзажность, медитативность, открытость и чистота образов. Создатели не скрывают, что главным адресатом фильма выступает как раз западный зритель, у которого, как им представляется, сложилось неверное представление об исламе, его пророках и подвижниках. Но этот зритель воспитан на определенных клише, и голливудские стандарты помогают приблизить кинополотно к его привычным запросам. Парадоксально, что картина, пронизанная гуманизмом и созданная с целью прославления ислама, была воспринята в штыки в ряде исламских стран. Сунниты сочли ее слишком шиитской, что снежным комом вызвало дремавшее недовольство картиной и некоторых других народов