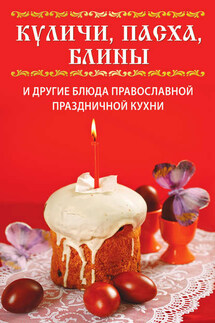Западно-Восточный экран. Материалы Всероссийской научно-практической конференции 12–14 апреля 2017 года - страница 23
Смелость Маджида Маджиди заслуживает всяческого уважения, но негативная реакция в мире во многом была ожидаемой. По этой причине более безопасным оказывается обращение не к религиозному, а к лирическому эпосу, который также дает возможность показать «человеческое» лицо Ирана, гуманистическую суть исламской идеологии, и при этом отразить противоречия современности. Такой путь избрал Аббас Киаростами.
Американский киновед Годфри Чешир справедливо отмечал, что если попытаться свести творчество Аббаса Киаростами к одной идее, то ею будет стремление найти «кинематографический эквивалент модернистской поэзии Ирана»[58]. Модернизм в Иране всегда характеризовался не столько разрывом с академизмом, сколько готовностью принять парадигмы иной культуры[59] и органично связать их с традиционным мировоззрением. Поэтому многие эпические произведения, написанные более 500 лет назад, кажутся более «модернистскими», чем ряд сегодняшних произведений иранского киноискусства и литературы (часто очень достойных), сделанных в соответствии с требованиями фундаменталистского режима. Большинство великих персидских поэтов, расцвет творчества которых приходится на X–XV в.в., были по сути модернистами – они находили сюжеты для своих произведений в устных легендах и преданиях, в древнейших книгах «Авесты», насыщали их исламским толкованием и неизменно отражали в них личные переживания и настроения своего времени.
Хотя экранизация не является излюбленным видом творчества Киаростами, у него есть два фильма, которые служат блестящими примерами модернистского переложения эпоса на экран. Это – «Тазия», экранно-театральное представление в «Театро Индиа» в Риме (2005), и «Ширин» (2008). Обе картины радикальны по форме и стилю. Они не воссоздают атмосферу былых времен, а знакомят зрителя с иранским эпосом в минималистичной, приближенной к тексту современной форме. Вспоминается крылатая фраза А.П. Чехова: «Если пьеса хороша,…нет надобности утруждать актеров…»
В шиитском исламе «Тазией» называется религиозная мистерия с музыкой, скачками и боями в память о мученической смерти Хусейна[60], внука пророка Мухаммеда. «Тазия» устраивается ежегодно, хотя традиции сохранились лишь в некоторых провинциях Ирана, поскольку правительство не поощряет культ Хуссейна. До постановки спектакля Киаростами выезжал в иранскую глубинку и снимал на камеру лица иранцев, зрителей «Тазия». Эти кадры впоследствии демонстрировались на шести больших экранах, расположенных над сценой, на которой разворачивалось представление.
В основе «страстей» по мусульманскому мученику лежит предание о героическом миролюбце Сиявуше, одном из самых любимых героев «Шахнаме» Фирдоуси, прообраз которого находят в книге «Авеста» (Сьяваршан). Сама эта книга, а точнее собрание книг, создавались в то время, когда индо-иранское сообщество еще не распалось, поэтому и послужила тем мостиком, который связывает западный и восточный героический эпос