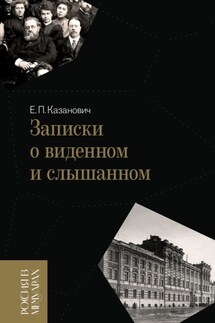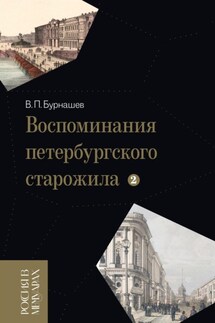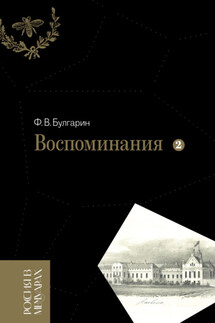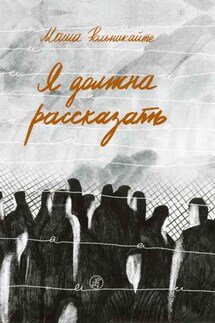Записки о виденном и слышанном - страница 110
Особая, женская печать лежит на «Всякой всячине», и эта черта важна и любопытна. Женская душа отмечает не то, что мужская, обращает внимание на другие черты и стороны жизни, по-другому подходит к вещам, поэтому участие женщины с этой стороны не только важно, но необходимо как в литературе, так и в науке. Благодаря особенностям своей психической организации она может обратить внимание на новую сторону мира и по-новому осветить ее.
Со временем женщина непременно дорастет до этого.
29/VI. Однажды Данилов передал нам рассказ одного из сектантов, кажется, бывшего у Легкопытова или еще кого-то из хлыстов, уж не упомню, о впечатлении, вынесенном им из их беседы:
– Говорил он, говорил, понимаете, целых полчаса прошло, и что дальше, то все громче, так что у меня звон в ушах пошел и я уж слова понимать перестал. Через полчаса спрашивает: «Понял?» – «Ничего, говорю, не понял». – «Ну, значит, мало!» – Еще полчаса прошло. – «Теперь понял?» – спрашивает опять. – «Да как будто что-то начинаю понимать», – отвечаю. – «Ладно, говорит, слушай еще». – И что ж вы думаете, что дальше он говорил, то больше я его понимал, и слов как будто и не мог повторить потом, а нутром все понял.
То же, по всей вероятности, происходит и при чтении романов Ремизова: в «Часах» я еще ничего не понимала; в «Пруде» начала уже смутно докапываться до какой-то души автора, до его внутреннего мира, и тоже не через слова и образы, а нутром; в третьем произведении, если я его прочту, я, надо надеяться, буду уже вполне понимать то, что понимает Ремизов и о чем он нам говорит, благо во мне есть религиозное ощущение, по словам Данилова, ставящего его как conditio sine qua non118 для понимания Легкопытова и tutti quanti119…
Что же поняла я у Ремизова и ему подобных импрессионистов? (кажется, так называется этот толк в литературе).
Мало! и если я навру здесь в объяснении их, у меня будет только одно оправдание: Данилов ошибся, отыскав во мне способность к нутреному пониманию, и одно утешение: они меня не услышат и не придут в ужас от той ереси, которую я буду нести на их счет. К тому же – es irrt der Mensch, solang er strebt120, а я всей душой стремлюсь к познанию их.
Центр тяжести творчества Ремизова состоит в перенесении всего мира, со всей его органической и неорганической природой, в душу человека, героя, одного или десятка их, до того, что вне их – нет жизни. Когда они подходят к саду – появляется сад; когда они входят в комнату – воскресает комната; когда они обращают взор к месяцу или человеку – рождается месяц и человек. Отвернулись они от всего этого, потеряли в этом надобность – и оно моментально исчезает. За их спиной – ничего, абсолютное небытие. Я есть жизнь и все во мне.
Между философами существовал и еще продолжает существовать спор: есть ли бытие вне человека, т. е. реален ли внешний мир, или еще иначе: могу ли я, сидя здесь в мансарде, на даче, за 30 верст от Петербурга, могу ли я сказать наверное, что моя зимняя комната в квартире Черняков, в которой я оставила свои книги, свою скрипку, письменный стол и пр., существует сейчас со всеми этими вещами, равно как и Петербург и даже сами Черняки? Могу ли я быть уверена, что сзади меня есть еще четвертая стена моей комнаты и что эти три, которые я вижу сейчас, не исчезнут, когда я отвернусь от них?
Ремизов, должно быть, сказал бы «нет», если бы был философом, а т. к. он художник, то он и рисует нам только тот уголок, в который приходит в данный момент его герой, с теми кусочками и отрывками мыслей и ощущений, в которых герою этот уголок в данную минуту является.