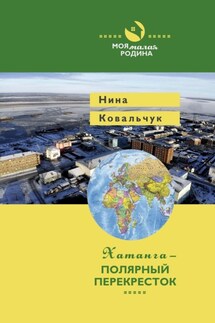Читать онлайн Пётр Кропоткин - Записки революционера. Полная версия
© ООО «Издательство АСТ», 2023
На обложке – иллюстрация из журнала «The Graphic» (23 апреля 1881 г.)
Предисловие автора к первому русскому изданию
Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя, а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, изложено, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося таким прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.
Притом же Россия живет быстро за последние полстолетия. Крепостное право и крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полосою очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и представляется современной молодежи каким-то сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».
Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшеюся реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.
Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятых годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, – этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества, – идеал централистов – опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России, опять стоит он на пути развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие – в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятых годов и вызвало резкий протест Базарова, – вновь оживают среди нас.
И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, – даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, – снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из привилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, – отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс в человечестве не разделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, – сочту ли я себя простой частицей большого целого и понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и освобождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»
Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.
Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского преимущественно о русской жизни – пришлось переводить другому с английского языка, – требует нескольких слов объяснения.
Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть «Детство» – была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджем, который был тогда издателем ежемесячного журнала «Atlantic Monthly»[1]. Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал – опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, – мою юность. Затем для «Atlantic Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.
Когда зашла речь о напечатании группою русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать русский ли текст, более подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием полного русского текста пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.
П. Кропоткин
Июль 1902
Часть первая
Детство
I. Старая Конюшенная
Москва – город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем, и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь пред ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и живет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.
И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной.
Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные имения. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.
В молодые годы большинство из них тоже пытало счастье на государственной, большею частью военной, службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило в отставку. [Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество; все они со множеством главок, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие – в желтый, третьи – в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей – желтой или зеленой церкви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою матушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».]
Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.
В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасады с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу также выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.
Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана – кресла, козетки, столики, а между окон – столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лад. За большою гостиною шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за маленькой гостиной – уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине «анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребами и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрошеный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.