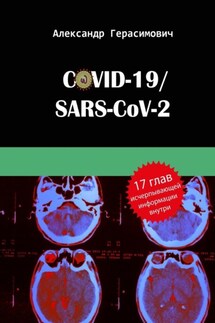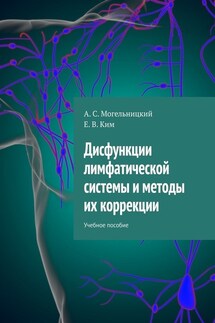Записки врача неотложной помощи. Жизнь на первом этаже - страница 3
Хееехнннххх-хеееееххххх-хеенннннхххххееехххххх.
Этот свист называется «стридор», и со временем его начинаешь узнавать на слух.
Когда я, еще будучи студентом, впервые оказался в отделении неотложной помощи, там непрерывно раздавались сигналы десятков мониторов: кого-то из пациентов тошнило, кто-то другой кричал от боли. «С дороги!» – заорала на меня медсестра, толкая мимо какой-то аппарат. Я оказался в мире, где не было никаких четких законов, поэтому я сам придумал для себя первый закон: не попадайся под ноги.
Прошло некоторое время; постоянно погружаясь в эту новую среду, я привык к ней и, как это обычно бывает, стал относиться к своим обязанностям более ответственно. Теперь я тоже органично вписываюсь в местный ландшафт, я – часть этого вечного водоворота. И из всего бесконечного разнообразия звуков меня заставляют сразу насторожиться три: 1) объявление по громкой связи, если в нем требуют моего немедленного присутствия где-либо; 2) тревожный сигнал («бип-биииип-биииииииип») датчика сатурации, оповещающий о том, что уровень кислорода в крови пациента упал; 3) стридор – этот низкий угрожающий свист, знак того, что дыхательные пути перекрыты из-за рака, инфекции, ожога. Или из-за распространяющегося кровоизлияния в тканях шеи, как у этой женщины, которую только что вынули из петли; она повесилась на ремне в тюремной камере.
Этот звук, как храп, только более высокий и более зловещий. Он громче на вдохе, когда ткани смыкаются от отрицательного давления, создаваемого диафрагмой, чтобы втянуть в легкие воздух. Этот мучительный хрип смыкающегося просвета в дыхательных путях – один из самых опасных звуков в мире. А иногда он становится последним звуком, который человек слышит в своей жизни.
Услышать его можно нечасто, но если раз услышал, то такой случай не забудешь. Последний раз я слышал его в Эфиопии. В наше отделение поступил молодой человек, который упал с крыши здания. У него была разбита голова, полный рот крови. Из горла с дыханием вырывался хрип.
– Слышите? – спросил я у одного из эфиопских ординаторов. – Это звук, с которым рушится жизнь.
Если дыхательные пути смыкаются, то вариантов немного. Жесткая дыхательная трубка, которая, пройдя мимо мягкого языка и задней стенки горла до жестких колец трахеи, будет поддерживать открытым просвет, позволяющий воздуху попадать внутрь. Или, если отверстие полностью сомкнулось – слишком большая раковая опухоль, слишком много крови или значительный отек, – «рот» придется прорезать в шее.
Учась в медицинской школе, я днем тренировался это делать в аудитории, а ночью – во сне. Медленно, но верно двигаясь к тому, чтобы иметь дело с живыми пациентами, я снова и снова склонялся над манекеном, тыкал трубкой в его невозмутимое слепое лицо, слушая скрип резины по резине и чувствуя, как от химических испарений слезятся глаза. Прошел год, и вот я стою в коридоре за дверью операционной, разговариваю с человеком, который не находит себе места от волнения перед операцией; в животе у него урчит. Я смотрю, как шевелятся его губы, но не слышу слов. Я знаю, что скоро он будет лежать без сознания на операционном столе, и значение для меня будет иметь только проходимость его дыхательных путей. Он вдыхает газ, засыпает, и анестезиолог подает мне инструменты, стараясь держаться поближе ко мне на случай, если я начну нажимать на верхние зубы металлической рукояткой клинка ларингоскопа, пытаясь разглядеть то самое отверстие диаметром с авторучку; но я не нажимаю, я делаю все, как меня учили, и трубка проскальзывает внутрь как по маслу.